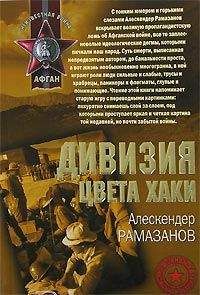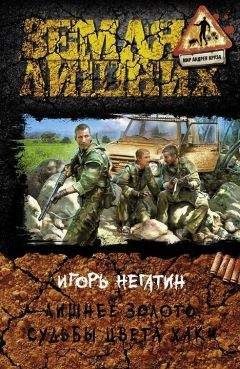Ознакомительная версия.
Посланца Тимохина этого я просто на х... от порога послал и больше инструмент не дал. Пожаловались они Игнатову. А тут у меня в гостях был Сергей Морозов, корреспондент «Фрунзевца», родом сам из Грозного, земляк, значит.
Ну, пошли за компанию на разборки.
Игнатов стоял у Дома офицеров, как Петр на «брегах Невы». Издалека еще грозно начал: «Что ты, Рамазанов, морда нерусская, почему работу тормозишь? Тебе ведь помогали? Смотри у меня! Отдай инструмент!»
Серега Морозов шепнул: «Вот почему я и не хотел служить в дивизионке, да в войсках...»
Инструмент на погибель я отдал. Ну не весь, конечно. И не самый лучший. Но к Дому офицеров и его начальнику близко не подходил. А слова Морозова засели в душе. Так и буду «мордой нерусской»?
Да вот ведь что было несообразно. По духу, по культуре, по образу жизни я был больше русский, чем... многие Ивановы да Петровы вокруг. Слов «манкурт», «маргинал» тогда в ходу не было. Слава богу, и теперь они не в ходу! Но вот многие кровно-русские даже песен своих не знали. А меня бабка Мария во младенчестве казачьими песнями убаюкивала да Лермонтова напевала: «Злой чечен ползет на берег...»
Эх, бабушка, зло-то я в основном видел не от чеченов и евреев, про которых любят анекдоты рассказывать. Они-то были в те годы нормальные ребята. А вот свои, голубоглазые, с пшеничными волосами. Они меня только за одну фамилию – Рамазанов – в дерьмо пытались запихать. Ну, с кем поведешься...
А с другой стороны, чего чистокровному «болдырю» жаловаться? Интернационализм – это выдумали немцы, евреи и грузины, когда, каждый со своим, на Русь шли. А тут в своей крови «неоднородной» война идет. А уж извне – какой там «мир и благоволение»? Чушь все это!
Что же это за храм такой – «братство народов», если он годами создается и днями рушится?
Это уже не про Афган...
Работы по обустройству типографии приобрели характер культа. Не буду отводить здесь себе роль верховного жреца, хотя был «за все ответчиком», командиром и начальником. Просто действовал личным примером, потому что и мне эта работа была в радость. А солдаты, эти чистые душой крестьянские парни, они весной особо скучали по созидательному труду. Да и потом, они делали все для себя. Здесь им предстояло жить, работать, «тащить свой Афган». Думаю, что свою роль играло и чувство ложной вины (о, это мощная штука!), ведь их сверстники в батальонах несли боевую службу, выходили в рейды, они видели, как мимо проносились БМП и БТРы, облепленные грозно-грязными воинами, увешанными оружием разных систем. По поводу «грязных» поймите правильно: через пятнадцать минут езды на БМП по проселку в Афгане, если ваша машина не головная, человек покрывается слоем пыли, которая по сухой коже катается как крахмал, а соединяясь с потом, превращается в липкую грязь цвета какао.
Но, думаю, я это чувство несуществующей вины со своих ребят снял. При любом удобном случае разъяснял, что в армии, где все служит силам разрушения и потребления, редакция – одна из немногих созидающих, производящих структур. И этим нужно гордиться. А то ведь чувство вины – опасная штука для нормального человека: немногие герои переживают его без последствий. А зачем Родине столько шизиков?
Итак, месили глину, формовали кирпичи, армируя их резаной соломой, укладывали кабель, цементировали кусочками, под рейку двор, по мере отыскания цемента. Делали многое другое, как песню пели за братским столом, т. е. работали, не думая об ином. Попробуйте думать о чем-нибудь другом, когда поете, кроме песни. То-то. Одно что-то не получится...
Вечная афганская проблема (да только ли афганская? Армейская, национальная!), где бы солдатику помыться и умыться на новом месте, сначала решалась по-человечески.
Рядом с офицерским модулем стоял загаженный, прокисший и заплесневевший вагон-душевая. Загадили его сами офицеры и прапорщики. А комендантская рота не горела желанием вылизывать чужие сопли.
Я договорился с комендантским прапорщиком, что мои ребята вагон-душ в порядок приведут, а за это сами будут им пользоваться. Ударили по рукам.
Я выдал краны, лейки, бруски для решеток, краску – это очень ценные были материалы! Вагон ожил. Хоть и холодная вода, но была. Потом бак на крыше залатали и типографской краской вычернили. Вот и теплая водичка. Просто у нас для своей баньки пока не хватало сил и средств.
Все шло нормально, пока в одно прекрасное утро моих ребят не вытолкали взашей из умывальника штабные крысы. Да еще ко мне претензии имели: нечего солдатам с офицерами морды умывать. «Я тут душ хочу принять, а солдат меня голым видит», – буквально так мне выговаривал красномордый холеный майор. Ну что же, ваша правда, бояре. Я и сам в солдатский сортир ходил по вечерам либо старался занять очко в дальнем углу. Да еще при этом чтобы без погон, в майке или в куртке камуфляжной. Это мы понимаем... Негоже солдату естество офицерское видеть... Будь по-вашему!
Солдаты без моей команды вывернули наши краны и лейки. Это было дорогое удовольствие. А решетчатый настил я запретил снимать. Пусть пользуются. Скандал последующий я пережил, доказав свою правоту. А вагон-душ вскоре вновь превратился в сортир. Офицеры умывались из чайника за модулем. Потом им поставили сосковый рукомойник. Один на сорок человек.
Тем временем со свалки (она была покруче, чем Зона в «Сталкере» у Стругацких) бойцы притащили огромный (на роту!) умывальник на десять сосков, с отличным стоком-раковиной и резервуаром литров на двести. Привели в божеский вид. Ввинтили новые краники, заменили соски. Да еще уложили нагревательный элемент в резервуар. Все. Гуляй, душа!
Теплая, горячая, холодная. Есть куда мыло положить, и зубную пасту, и щетку. Для слива приспособили яму, из которой брали глину для кирпичей.
Хорошо по утрам, умывшись, в ботинках, начищенных китайской тушью, стоять средь пыльного Афгана, встречая восход солнца. А еще знать, что вот эти три миндальных деревца во дворе – единственные в дивизии. На них иногда садились майны – афганские скворцы. А тушью ботинки и туфли чистить в сухом и жарком климате – милое дело. Научил меня этому очень важному для военного человека делу Сережка Ершов. Дело было в 1970-м в Туркмении. Серега, пермский рыжий парень, служил в оперативном отделении чертежником, в 43-й радиотехнической бригаде. У них туши хватало. Так вот я заметил, что на его ботинки (а в ТуркВО еще тогда носили летом ботинки, которые парили ногу сильнее сапог) пыль не садилась. Серега неохотно выдал секрет. А туши и в политотделе хватало. Во-первых, экономия на креме, во-вторых, ботинки скипидаром не воняют и рыбьим жиром, в-третьих, блестят, как от дорогого крема «Люкс». Есть, правда, небольшие технологические особенности чистки, но это быстро осваивается...
Вот в таких ботинках выйдешь на рассвете, еще прохлада тонкая в воздухе, подышать можно. А впереди день забот. Хороших забот. Редакция ярким сочным пятном выделялась среди серых модулей и палаток. Ее даже называли «украинской хаткой». А что? Крыша блестит. Переплеты на стенах синие, подоконники зеленые. Стены – чистые, как кипенное белье, сапожок черный. Зеленая калитка. И вызывающе белая широкая отмостка. Не дай бог, кто в грязных ботинках наступит!
Ночью только у штаба фонарь горит да у женского модуля. Там, с торца, начальник политотдела живет – идейное светило!
А редакция – сияет. По четырем углам плафоны. Да вот беда, со стены, обращенной к особому отделу, кто-то периодически лампочку выкручивал. Ночи не продержится, бывало. Лампочки у них из-под носа воруют. Наблюдая, как боец на стремянке ввинчивает пятую за неделю колбу, я посетовал замначальнику особого отдела, который стоял на своем крылечке, приветливо улыбаясь...
– Вот, товарищ подполковник, какие-то обезьяны лампочки воруют. А у вас тут вроде охрана круглые сутки стоит...
– Рамазанов, ты насчет обезьян полегче! А иллюминацию твою я снимаю. Ты же сообрази, не у каждого, как у тебя, кабинетик есть? Ну вот нужно человеку зайти к нам вечерком, а тут все как на ладони. Сообразил?
– Черт, верно. Как не подумал!
– Ладно, не засвечивай больше наших гостей. Лучше вот скажи, ты знаешь, что в артдивизионе есть солдат, который книгу пишет. Может быть, опубликуешь?
– Да о чем книга-то?
– Откуда я знаю? Ты же редактор. Поинтересовался бы. Вдруг что-то толковое. Да, говорят, он на узбекском пишет. Может, и про Афганистан, – мечтательно сказал особист.
Книгу солдат, выпускник азиатского педагогического вуза, действительно писал. О любви. Очень личная книга. Особистов это успокоило. В то время уже ходили легенды о сатирической поэме «Теркин в Афганистане». И об авторе ее тоже ходили всякие мрачные легенды. Через года полтора один из оперов, напористый майор, расследовавший дело о контрабанде в редакции газеты «Фрунзевец», сказал мне, что автора надолго упекли за решетку, а может быть, и расстреляли. А что? Был 1983 год.
Ознакомительная версия.