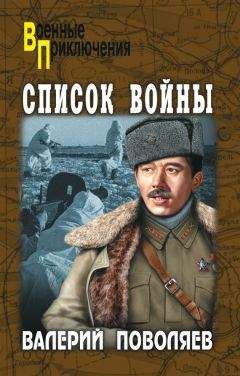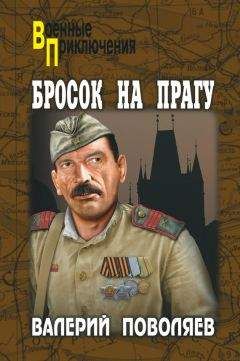Ознакомительная версия.
«Ничего-о, ничего-о, — мелькнуло в голове звонкое, похожее на сострадание к кому-то неведомому, состоящее из одного гулкого долгого «о-о», — одна картоха есть — уже удача. Вон вторая светится, вон третья видна, чёрная, промёрзлая. Наберём картох, дома отмоем их, — он обращался к самому себе как к кому-то постороннему, вежливо, во множественном числе и обращение в вежливой форме — одно и то же. А может, это и не так. Всё забыл, всё ко всем чертям забыл. Будьте вы прокляты, фрицы! — Снова ткнул палкой в землю. — Нажарим чибриков, заморим, замо-о-орим червяка».
Пачкая одежду горькой солончаковой землёй, в ботинках, которые, кажется, невозможно было уже сдвинуть с места, — на них налипло по пуду грязи, — Шурик Ермаков выковыривал и выковыривал мёрзлую картошку, засовывал её в карманы, улыбался жалобно и отрешённо, что-то нашёптывал про себя, внутри словно бы сломалась некая заплотка, барьер, отделяющий в нём пацана от взрослого человека, всё смешалось: жалость к земле и жалость к себе, голод и пресыщенность — а ведь он был пресыщен голодом, — сладость и горечь, жажда и полное отсутствие жажды, боль и какая-то странная бесплотная сладость… Наверное, с голодным человеком иногда случается такое — он теряет над собой контроль.
Из прошлого неожиданно возникло малозначительное видение: однажды он возвращался из райцентра в деревню — в райцентр ходил фотографироваться, мать заставила, — и в низине, где стреляли в дезертира Федякина, присел отдохнуть. Разулся, чтобы ноги могли немного подышать. Дело клонилось к вечеру, низина была сырая — калужины-то рядом, густо насыщают воздух водой, — и Шурика с головы до ног облепили комары. В несколько минут, он и ахнуть не успел. Поднялись, видать, разом из своих потаённых мест, из зарослей кути, обволокли бедного человека, накрыли его серой тучей, плотно, — ни вздохнуть, ни вскрикнуть. Шурику даже страшно сделалось. Ну, будто до сих пор он не видывал писклявых кровососов. Пока натягивал на ноги коты — тапки, сшитые из кирзы, без них ходить здесь нельзя, враз ноги колючками попортишь, гадости этой тут видимо-невидимо, — комары успели из него высосать половину крови. И не больно было, вот ведь как.
Чуть было не бегом кинулся Шурик с этого пятака, но в последний момент что-то остановило его. Он поначалу даже не понял, что же именно, лишь в следующий миг осознал: какой-то лёгкий, неслышимо-странный маслянистый треск, настолько невесомый, что казалось — он находится за пределами человеческого слуха, за гранью слышимого.
В тучу комаров будто молния вошла.
Серое облако начало разваливаться на куски, рассыпаться, опускаться на землю, как осаженная дождём пыль. В следующее мгновение Шурик увидел стрекозу — обыкновенную черно-зелёную, с длинным полосатым «фезюляжем» и блесткой кобальтовой головой стрекозу, которая врезалась в ком комаров, словно нож в масло, пластала его, рисовала ловкие стремительные пируэты, легко бросала свое тело из стороны в сторону, падала вниз, зависала, крутилась волчком на одном месте, снова стремительно взмывала вверх — стрекоза поедала комаров. Она, снимая комаров, буквально садилась Шурику на лицо, на плечи, не боялась его, — и очень быстро очистила от кровожадной пищащей налипи.
Не подозревал, даже представить себе не мог Шурик, что стрекоза способна съесть столько комаров, непонятно, куда вообще вмещались эти долгоносые кусаки — тело стрекозы как было поджарым, вытянутым, личинистым, таким и продолжало оставаться.
И тогда Шурик, повинуясь безотчетному внутреннему движению, вывернул наизнанку карман штанов, бережно извлёк оттуда остаток ржаной горбушки, которую брал с собой, и начал предлагать хлеб стрекозе: «На, поешь?» Но стрекоза отнеслась к хлебу равнодушно: судя по всему, была неземным, ничего не понимающим существом. «Ну поешь, — умолял её Шурик, — ну!»
Бесполезно — уговоры не помогли.
Шурик даже погнался за стрекозой, настойчиво предлагая ей отведать ржаной коврижки, но та с маслянистым щёлканьем, будто игрушка, увёртывалась, не желала принимать дар, взмывала вверх, оттуда проворно соскальзывала вниз, задерживалась на высоте Шурикова роста, вилась вокруг него, плясала, делала скачки, отгоняя в сторону комаров, а хлеб не брала — не хотела…
Эх, взять бы да переместить из прошлого в нынешний день тот кусок черняшки, невеликий ржаной ломоть — хлеб, которого так не хватало сегодня в деревне.
Вот какое странное, а в общем-то, тревожное, осязаемое до боли видение возникло перед Шуриком, когда он, извозюканный, с напряжением, остывшим до синевы лицом, стоял посреди поля, сжимая в руках мёрзлые прошлогодние картофелины, самые разные: и чистые, отмытые снегом и дождём, сливочнобокие, и чёрные, очень грязные, и неопрятные серые, с лохматурой отгнившей шкурки — с порванным мундиром… Карманы тоже оттопыривались, провисали под тяжестью нарытых мёрзлых котяхов — на хороший чибриковый завтрак он набрал «матерьяла», точно набрал…
Шурик оглядел себя, и в горле у него что-то задавленно булькнуло — никогда не был таким грязным, мятым, подавленным голодом, не председатель, нет, — огородный ванька, что ворон отпугивает, вот он кто.
Земля шевелилась под ним, словно живая, пьяно колыхалась, ездила из стороны в сторону, трудно на ней было держаться, Шурику казалось, что он вот-вот упадёт, зароется лицом в фиолетовую грязь, выпустит добычу из рук, рассыплется картошка и не собрать её тогда, ни за что не собрать, и он напрягся, борясь и с собственной немощью, и с землей, и с качкой, и всё же еле держался на ногах. Он должен был донести картошку до дому, должен, чтобы хоть малость подкормить мать, подкрепиться самому, задавить эту опустошающую, какую-то сосущую тупую боль. Снова подумал о похоронках, и ему стало совсем плохо. Как быть, как жить дальше? Как?
Хлеб никитовцы, несмотря ни на что, вырастили в этом году добрый. Ох, и хороша же уродилась рожь с пшеничкой — давно такого хлеба не было. Когда убирали — душа светлым чувством радости наполнялась, будто ни боли, ни горя, ни войны, ни похоронок — ничего этого словно бы и не было. Девки даже песни пели.
Убирали по старинке, поскольку технику МТС им не выделила.
Деревня целиком вышла на поля. Там, на полях, все и ночевали. Не только бабы, а и старики, и младенцы — вся Никитовка. Вставали вместе с солнцем, ёжась от ночного холода, вместе с солнцем и спать ложились, устраиваясь на ночёвку под телегами, усталые, потные, худоликие, с гудящими руками и ногами. Засыпали сразу, в один момент, не замечая, какие звонкие звездные ночи дарит в эти дни людям батюшка-август.
Погода жаловала людей.
Но потом из степи начали приплывать, — одно за другим, вызывая недобрые предчувствия, — сухие трескучие облака, не облака, а облачишки, низкие, необычные. Дед Петро долго изучал их, хмурился озабоченно, пришлёпывал губами, прикидывая, что к чему. Потом пришёл к Шурику.
— Ты этих гусей опасайся, председатель. Хорошего от них ждать нечего. Это фрицевы облака. Гитлеру они на руку, ему, а не нам.
— Что, задождит?
— Какой там задождит! В них воды-от… даже блоху напоить не наскребётся. Другое страшно. С молоньями облака идут, поля зажечь могут. Ты про сухие грозы слыхал?
— Слыхал, — неуверенно ответил Шурик.
— Вот эти гуси и приносят сухие грозы, это они молоньями в земли, в хлебушек бьют. Надо глядеть зорчее, чтоб беда на нас не обвалилась, как худой потолок. Понял, председатель? Всему люду об этом скажи, пусть народ хлеб стережет.
Ночью Шурик в первый раз, пожалуй, не мог заснуть — ему казалось, что сухие облака продолжают своё движение и ночью и бьют, бьют молниями в землю. Шурик, высунув голову из-под телеги, несколько раз пытался вглядеться в чистое небо, в котором весело позванивали, перемигиваясь друг с другом, беспечные звёзды. Они обсыпали небо густо, сплошняком, будто осколки вдребезги разбитого огромного стекла, и были самых различных размеров — от крупных, острозубых до едва различимых, схожих с пылью.
Свет звёзд был настолько ярким, что у Шурика даже заныло под ложечкой, а в груди образовалась странная холодная пустота, и он заёрзал на зипуне, постеленном на землю, — прочь, прочь, прочь слабость! Не маленький, чтоб звёздному испугу поддаваться. Стал думать о другом.
В стерне шла своя жизнь — шебуршили, подбирая оброненное зерно мыши, озлобленно дрались друг с другом, пищали и мешали спать, кто-то громко протопал совсем рядом — наверное, барсук, прямо над телегой бесшумно пролетела грузная сова, перечеркнув небо чёрной тенью, молча свалилась на край поля — видать, там было более всего мышей.
Из недалёкого лога доносился приглушенный вой и собачье тявканье — там жил волчий выводок, и Шурик, смежив глаза и стараясь уснуть, думал, отчего же это молодые волки голос свой подают? Тем более, неподалеку люди находятся. Ведь волки всегда, пока не вырастут, молчат, прячась в норах — именно молчат, боясь привлечь к себе внимание. Может, это не чистая порода, а помесь волка с собакой? Но как бы там ни было, лог надо обязательно прочесать и выбить оттуда волков. Иначе зимою беды не оберёшься. Может история, что произошла с дедом Елистратом Глазачевым, повториться. Едва Шурик подумал о деде Елистрате, как его будто током пробило, затрясло, в горле вспух горячий пузырь. Он зашёлся в кашле.
Ознакомительная версия.