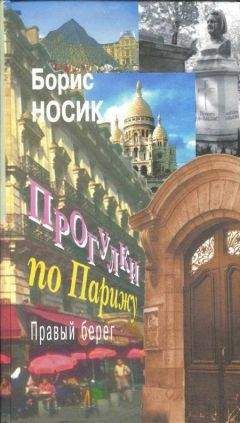Ей и самой хотелось кое о чем расспросить его, но он не давал слова вставить.
— Откуда ты знаешь, что офицер этот из докторов?
— От денщика.
Ложечка с бульоном лишь чуть-чуть вздрагивала у нее в руке, но он тут же осведомлялся:
— Ты что?
— Ты бы меньше разговаривал, а больше ел, — с досадой выговаривала она ему.
— Я уже наелся. С твоего бульона у меня скоро тут горло жиром заплывет. — И тут же продолжал свой допрос: — Разве он по-русски знает?
— Не очень, но понять можно.
— И что же он еще говорил?
— Это он только когда налакается пьяный, а так все больше молчком, — отвечала она, сосредоточенно обматывая бинтом ему грудь, пробитую осколком.
— Еще не хватало тебе его вином поить.
— Вчера он говорил, что скоро они должны Сталинград взять.
— Ну, этот орешек им не по зубам.
И после этого он надолго замолкал, отвернув голову к глиняной стенке ямы.
Вскоре уже она не смогла запретить ему вылезать из ямы, и, не считая ночи, он теперь все время проводил наверху, лежа на животе в дерезе и внимательно рассматривая в свой бинокль правый и левый берега Дона. Как-то и ей он дал глянуть в бинокль. От неожиданности она чуть не вскрикнула, вдруг увидев прямо перед собой проросшие сквозь белопесчаный откос красноватые корни левобережных тополей и верб, пьющих воду из Дона. А внизу, под стенкой яра, с такой сумасшедшей силой бурлила вода, что нельзя было смотреть, и она поспешила вернуть ему бинокль.
Как-то застала она его за тем, что он аккуратно раскладывал на припеке по краешку ямы огрызки хлеба.
— Это ты к чему?
Он усмехнулся:
— Сухари никогда не могут помешать.
Испугавшись, что он отрывает хлеб от себя, она предложила:
— Теперь я тебе буду больше хлеба приносить.
Он успокоил ее:
— У меня все равно остается. И вообще не положено разъедаться через край, чтобы развязывался пупок. Потом будет трудно отвыкать.
— У меня, слава богу, мука еще есть.
На что последовал немедленный ответ:
— Не век же мне тут на твоих харчах загорать.
В другой раз, когда она отыскала его в дерезе по обыкновению изучающим в бинокль берега Дона и луговое Задонье, он, повернув на шорох ее шагов голову, неожиданно поинтересовался:
— А Гришатка твой в какой уже класс ходил?
— В шестой, — ответила она, еще больше удивляясь тому, что такой ответ явно обрадовал его.
— Значит, у него где-нибудь учебник по географии должен быть. Ты, пожалуйста, поищи его для меня.
И когда на другой день она принесла ему этот Гришаткин учебник, он тотчас же раскрыл его перед собой в том месте, где вклеена была карта, и стал ползать своим артиллерийским биноклем по левому берегу, время от времени отрываясь, чтобы узнать у нее:
— Это просеку зачем прорубили через лес?
— Сено с займища возить. — И увидев, как светлые остья бровей тут же поползли у него кверху, она поспешила пояснить: — С заливного луга.
— А что это дальше за столбы?
— Там дорога.
— Ты когда-нибудь ездила по ней?
— Как-то в Сталинградскую область за племенным бугаем для колхоза, а оттуда гнала его пеши.
Он заметно оживился и попросил ее:
— Ты мне, пожалуйста, расскажи об этом подробнее. Какая там местность? Тоже все время только степь или же леса есть?
Еще с тех пор, когда его батарея располагалась у нее на подворье, запомнилось ей, что был он не из тех военных, у которых не обходится без заигрываний с их квартирными хозяйками, когда фронт перекатывается через новую местность. И теперь он ни разу не попытался затронуть ее, даже после того как от его ран уже не надо было отмачивать бинты марганцовкой. Лишь однажды, когда она пришла к нему, еще не остывшая после купания, которое устроила себе с Гришаткой в летней кухне в отсутствие своих постояльцев, вдруг смутил ее словами:
— А ты красивая… — И, продолжая смотреть на нее так, будто увидел ее впервые, спросил: — Этот… офицер не пристает к тебе?
— Нет-нет! — с поспешностью ответила она.
— Правда?
— Да, правда, — испуганно заверила она, заметив, как вздрогнула его рука на траве рядом с автоматом, с которым он не расставался и тогда, когда вылезал наверх из ямы.
Хотя это была и не вся правда. Вопреки всем ее опасениям, связанным с появлением у нее в доме немецкого офицера, она вскоре убедилась, что его ей не надо бояться. Ей бы ни за что не догадаться об этом, если бы его денщик не намекнул как-то в приливе пьяной откровенности, что ее тринадцатилетнему сыну не стоит слишком часто попадаться на глаза майору.
— Чтобы он случайно не сделал из него свой маленький русский фрау.
И тут же по ее лицу убеждаясь в ее полном невежестве на этот счет, денщик с удовольствием пояснил, хлопая себя ладонями по бокам и закукарекав так, что какой-то петух отозвался ему на другом краю хутора.
Она бы и после этого не поверила ему, если бы вскоре и сама не убедилась, что ее квартирант, молодой и по-женски красивый офицер, действительно смотрит на нее как на пустое место. Встречаясь в калитке или же где-нибудь в саду и с неизменной вежливостью уступая дорогу, он скользил куда-то поверх ее плеча отсутствующим взглядом. И как все больше начинала убеждаться Антонина: не его ей следовало остерегаться, а в первую очередь того же денщика, Иоганна, который чем дальше, тем все откровеннее прицеливался к ней своими стоячими глазками из-под желтых, как придорожная колючка, бровей.
Первое время ей еще удавалось накачивать его с вечера виноградным вином со своего сада так, что он тут же и засыпал, и никакая сила не смогла бы его разбудить. Но вот уже и ее запасы стали подходить к концу, и тот, другой, хмель, от которого все больше багровой мутью наливались его глаза, как у племенного хряка на ферме, уже не полностью растворялся в вине. И сравнительно сдержанный в присутствии своего майора, в его отсутствие денщик становился особенно назойливым, не отставая от нее ни на шаг. Еще ни разу, правда, он не сделал попытки справиться с нею силой, может быть, и не надеясь, на это, потому что она была женщиной рослой, сильной, но и не оставлял ее в покое. Ни на шаг не отступая ни тогда, когда она готовила в летнице обед, ни тогда, когда полола траву меж виноградных кустов, ни даже тогда, когда спускалась с ведрами по воду к Дону. Уже и по ночам начинал бродить вокруг летницы, куда перебралась она с Гришаткой из дому, и не раз испытывал прочность двери, запираемой ею изнутри на большой деревянный засов.
И тогда Антонине пришлось пригрозить ему, что она пожалуется майору, которого, как успела заметить, денщик панически боялся. Скорее всего потому, что, как сам же и рассказывал ей, уезжал его майор каждый вечер на своем «мерседесе» не куда-нибудь, а в гестапо, где в его обязанности входило приводить в чувство партизан и пленных красноармейцев, когда они теряли на допросах память. Возвращаясь, майор обычно по целым дням просиживал перед зеркалом за бутылкой, время от времени чокаясь со своим двойником в зеркале, осушая одну за другой стопочки со шнапсом.
На какое-то время после ее угрозы Иоганн присмирел, но после того как опять стал ловить ее по куткам и она вынуждена была повторить свою угрозу, он вдруг заявил с ухмылкой на конопатом лице, что тоже может кое о чем рассказать майору.
— Например, — пояснил он, притиснув ее в сарае к стенке, — зачем ты варил в кастрюле на печке столько бинт, а я открыл крышка и посмотрел.
И, не давая ей опомниться от мгновенно подкосившего ее страха, он грубо воспользовался ее слабостью тут же, на ворохе соломы.
Не за себя так испугалась она. И когда потом пришла в себя, растерзанная на соломе, не столько тому содрогнулась, что с нею произошло, сколько той мысли, что теперь все может открыться. Она принялась уверять Иоганна, что бинты остались от проходившего через хутор госпиталя и теперь она решила постирать их на всякий случай.
— Меня пока не интересовал, где ты брал этот бинт, но завтра может интересовать, — великодушно успокоил ее Иоганн.
И перед этим «завтра» еще дальше отступило от нее то, что с ней произошло, — о себе ли теперь было думать?! Сегодня он еще ничего не знает, но завтра захочет узнать. Ей надо удвоить свою осторожность. Вот когда должен будет пригодиться и тот, последний, бочонок с ладанным вином, который она заложила в сарае дровами.
От ее ладанного Иоганн сразу же пришел в восторг, заявив, что оно нисколько не хуже рейнвейна. Но и накачать его с вечера этим вином так, чтобы он не просыпался до утра, теперь уже было не так-то просто. Он стал растягивать это удовольствие, закусывая каждый стакан вина ломтиком намазанного горчицей шпига, а поэтому и пьянел медленно, окончательно сваливаясь лишь после трех-четырех литров. Однако и после этого, прежде чем идти к лейтенанту, ожидающему ее в яме, Антонине надо было хорошо удостовериться, что денщик уже не проснется. Не пропустив и того предутреннего часа, когда требовалось разбудить его к возвращению майора с ночного промысла из станицы.