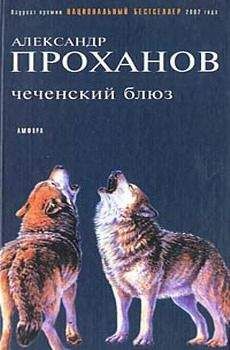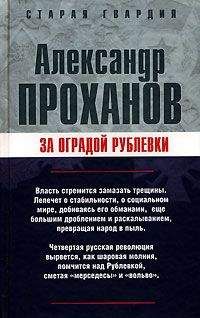Он сделал шаг, и от него, испугавшись, мелко застучав, метнулось небольшое стадо овец. Внизу, в зеленевшей ложбине, темнели два шатра, две кожаные палатки кочевников.
Он стоял, качаясь на кромке горы, не видя людей, слыша за спиной бубенец. Держал винтовку. Овцы веером рассыпались по склону, а потом, словно их собрал ветер, метнулись все в одну сторону и встали. Спускаясь с шатрам, он видел робкие, глядящие на него овечьи глаза.
У первого шатра чуть дымились полупрозрачные угли, висел котел. Перед входом был расстелен грязный, со стертым узором ковер, и на нем стоял глиняный сосуд с высоким горлом. Из шатра вышел худой, очень темный, почти чернолицый мужчина с синей всклоченной бородой ив кожаной безрукавке. Смотрел на Морозова, а тот качался перед ковром, держа винтовку, что-то пытался сказать, показывая глазами на глиняный тонкогорлый сосуд. Рухнул на пыльный узор, третий раз за эти дни теряя сознание.
Очнулся в полумраке шатра, на кошме, чувствуя, что накрыт мокрой тканью и на лбу у него мокрый ком материи. Сверху, из перекрестий деревянных опор, свисало какое-то разноцветное украшение. Смотрело черноглазое худое лицо. Глиняный край сосуда прикасался к его губам, и Морозов впивался губами, пил, захлебывался, наполняясь холодной тяжестью, сотрясаясь в ознобе. Его сотрясали судороги холода. И он горел, терял поминутно сознание, приходил в себя, снова пил. Смотрел в худое, сострадающее лицо, бормотал:
— Если вам не трудно… Еще немного… Если не трудно… И склонившийся над ним человек произнес: «Шурави!..»
В своем бреду он метался, искал винтовку, летели над ним откосы, беззвучно падали камни. Синеватое пламя опаляло его. Открывал глаза, и — прохладный шатер, свисающее с высоты украшение. И дети у входа смотрели на него многоглазо.
Он услышал приближающийся рокот двигателя. Не увидел, а угадал, как к шатру подкатил транспортер, надавил на грунт своими ребристыми колесами. И Саидов, что-то гортанно объяснял кочевнику, входил в шатер. Бросился к Морозову, вглядывался, пытался узнать:
— Морозов?! Ты, что ли?… ты?…
Солдаты перенесли его в железное чрево машины, две другие, зеленые, поводя по сторонам пулеметами, стояли на рыжих буграх, и кочевник протягивал в люк длинную винтовку Морозова.
В подразделении, куда они примчались по трассе, его встретил офицеры, солдаты. Внесли, положили на койку. Знакомый подполковник обнял его. Ощупывал худое под рубищем тело. Оглаживал, приговаривал:
— Ну, милый, ну вот, хорошо!.. Ну, Морозов, родной!..
А он, боясь, что снова впадет в забытье, торопился сказать.
— Там узнал… Готовится нападение на мост! Гератский мост! Мост Гератский!.. Завтра. Или, может, сегодня!.. Англичанин, рыжий, в чалме, будет снимать на «Кодак»!.. Не пустить! Из всех пулеметов!
— Понял, понял тебя, Морозов! Мост защитим! Тебя понял!
— Они взяли мой автомат! Обманули, отняли!.. Но я с винтовкой пришел!.. Добыл!.. Шел с винтовкой!.. Моя!..
— Твоя, Морозов, твоя! Ты солдат, Морозов, с винтовкой!
— Как Хайбулин?… Стреляли в него!.. Убит?…
— Раненый, в медсанбате. Ногу ему прострелили. Спрашивал о тебе.
Откинувшись, смотрел на подполковника, на его крестьянское, кирпичное от загара лицо. И в этом лице что-то дрогнуло, что-то влажно заблестело в глазах. Подполковник поцеловал его и тихо сказал:
— Сынок!..
Потом осмотрел его фельдшер. Чем-то прохладным, причиняющим легкое жжение, мазал раны и ссадины. Солдаты повели его в баню. Помогли раздеться, удивлялись, что весь он в белой пыли; и одежда, и тело, и волосы, и губы, и глаза — все было наполнено белой пылью. Лили из двух ковшей обильную воду. Мыли, терли, старались не задеть синяки и царапины. Смывали белый прах гор. Второй раз намылили голову, а когда окатили звенящей прохладной водой, голова осталась белой.
— Морозов, а ведь ты седой!..
И он, надев на себя все чистое, шел по усыпанной гравием тропке мимо угловатых транспортеров, выгоревшего красного флага, за которым розовели вечерние афганские горы. Шел мимо товарищей, и они молча смотрели на его седую голову.