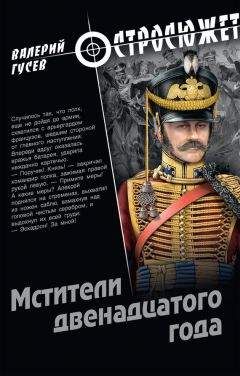Вылетели из леса откуда ни возьмись белые фигуры. Мгновенье. Медведь выбросил из кабины фельдфебеля, оглушил одним ударом, забросил его в кузов через задний борт. Трупы солдат, забрав их автоматы, швырнули за сугроб. Из-за которого возник запыхавшийся Кочетов. Попрыгали в кузов, задернули задний свес брезента.
Сосновский сел за руль, Сима — рядом. Быстро сбросили белые маскхалаты, оставшись в немецкой форме: Сосновский — фельдфебель, Сима — обер-лейтенант.
Сосновский вышел из машины, обошел ее кругом, постучав сапогом по скатам. У заднего борта остановился.
— Медведь, как фриц очухается, допроси.
— Понял, командир.
Дубиняк немного знал немецкий — его матушка преподавала в школе язык.
Сосновский вернулся в кабину, машина, зарычав, тронулась…
Колонну догнали у поста, охраняющего мост; она здесь замедлила движение, и Сосновский нахально занял «свое» место за белым транспортером, кузов которого, с обгоревшей белой краской, был плотно набит нахохлившимися солдатами.
Сима сказал что то вполголоса. Сосновский не разобрал ни слова, глянул вопросительно.
— Извини, — улыбнулся Сима, — в образ вошел, привычка. — И перевел сказанное: — Долго мы так не продержимся.
— А нам долго и не надо. Сразу за Воробьями сворачиваем. Кстати, заодно и посмотрим, что там, в кузове. И «языка» послушаем.
Странно было ехать по родной земле среди ее захватчиков. Ведь у каждого бойца, помимо общего, был и свой счет к фашистам. Но чувство ненависти было властно подавлено чувством долга.
Придерживая баранку одной рукой, Сосновский достал и передал Симе карту.
Тот, удобно ее свернув, положил на колено и тут же стал делать пометки на полях, время от времени уточняя у Сосновского.
— Больших транспортеров в колонне два, так? Четыре грузовика со снарядами, точно?
— Не знаю. Они крытые.
— Со снарядами, — уверенно чиркал карандашом Сима.
— Откуда ты знаешь?
— Я ведь отчасти офицер немецкой армии, — шутливо объяснил Сима. — Наш легкий танк гнали, «Т-60», самоходом, заметил?
— На хрена он им сдался?
— Хозяйственные.
Световой день близился к концу. Небо было еще светлое, но разных цветов. На востоке синело, на западе золотисто светило. Кое-где в синеве проглядывали первые нетерпеливые звездочки.
Потом вдруг разом все затянуло серой мглой, пошел снег, зарядом. Быстро кончился. Опять посветлело.
— Вообще, погубит немца порядок, — сказал Сима.
— А что так?
— Да я вот уже отметил: «с. Мокрое — дислоцирован четвертый батальон мотопехоты. Васильки — гаубичная батарея». Еще кое-что зафиксировал. По указателям.
— Это наглость, а не любовь к порядку, — угрюмо проговорил Сосновский. — Вон: «Нах Москау», видишь стрелку?
— Ничего, мы ее скоро на Берлин повернем.
— Да не очень-то скоро.
— Все относительно, фельдфебель. В рамках истории.
— В рамках истории впереди еще пост. И похоже, посерьезнее. Каждую машину досматривают.
— Проскочим, — с мальчишеской уверенностью пообещал Сима. — Погубит немца порядок. И дисциплина.
С этими словами он отщелкнул крышку ящичка на панели и стал деловито в нем копаться. Достал фляжку, отвинтил пробку, понюхал:
— Шнапс. Хочешь глотнуть?
— Я лучше своего, чистенького, на ночевке.
Сима перебрал попавшиеся в руки бумаги, отобрал нужные:
— Что и требовалось доказать. Кстати, верстах в пяти за постом — поворот на Воробьи.
Этот пост в самом деле был посерьезнее. Полосатый шлагбаум, грозная табличка «Halt», приземистая конторка рядом с обочиной, возле которой плотной сбитой стайкой теснились мотоциклы с пулеметами.
— Дас ист гут, — проговорил Сима. — Значит, впереди секретный объект. Я так полагаю, склад боеприпасов или топливный. Эх, ехать бы так и ехать подальше. Сколько полезного бы собрали.
— А ты веселый человек — серьезно сказал Сосновский. — И смелый. Ты мне нравишься.
— Ты мне тоже, — не стал скрывать Сима. — Ты за этой баранкой будто в Германии родился.
— А в ухо?
— Не успеешь.
— Я не таких…
— Вот именно, — усмехнулся Сима. — Именно, что не таких… Приготовься. Твое дело устало в стекло пялиться. И моргать по-тупому.
Сосновский остановил машину. Справа подошли два солдата. Из-под касок виднелись теплые подшлемники, носы были красные, с замерзшей под ними мокротой.
Старший небрежно выкинул руку в приветствии и тут же протянул ее за документами.
Сима что-то резко сказал ему. Одно слово Сосновскому резануло ухо чем-то знакомым. «Русский мат, что ли», — подумал он, моргая по-тупому.
Солдат виновато дернулся, взял документы, тут же их вернул. И сделал пропускающий жест.
— Шнеллер! — скомандовал Сима Сосновскому. — Ферфлюхтен!
— Что ты ему сказал? — Они тронулись, начали догонять переднюю машину.
— Я ему сказал, чтобы он подтянулся. Я ему сказал, что он солдат Великой Германии, а не разгильдяй-колхозник.
Сосновский повернул к нему голову:
— Не бреши, разведчик. А то он знает слово «колхозник».
— Капитан, — грустно вздохнул Сима, — они все знают много русских слов. «Матка, млеко, яйки, руськи бабионки, шиссен». И «колхоз», в том числе, они знают — они, сволочи, с них кормятся. Но любимое слово у них…
— «Руссиш швайн», знаю.
— Нет, любимое слово у них — «партизанен».
Сосновский поглядывал на дорогу, высматривая поворот на Воробьи.
— А что ты еще его спросил?
— А я спросил: где нам сворачивать на склад?
Сосновский рассмеялся.
— Тише ты, — улыбнулся Сима. — Слишком по-русски смеешься, от души. Даже желудок видно.
— А мне ты что сказал?
Сима пожал плечами.
— Сказал, чтобы ты ехал побыстрее. Что ты, вообще, сволочь.
— Спасибо. Надо это слово запомнить. При случае отомщу. Как будем сворачивать?
— Да просто. Съезжай на обочину и открывай капот. А я тебя буду материть по-немецки. Хотя, конечно, мат у них условный.
Съехали на обочину. Сосновский суетливо откинул крышку капота, стал ковыряться, грея руки возле теплого двигателя. Сима прыгал рядом, материл его условным немецким матом и даже дал чувствительного, не условного пинка под зад.
Замыкающий вездеход брезгливо объехал их, а офицер только выкликнул в их адрес что-то условно матерное.
Съезд на Воробьи был едва заметен. Сосновский знал, что, в общем-то, никаких Воробьев в глубине лесного массива давно уже нет. Когда-то был там хуторок, выродился, на его месте прижился пикет лесничего. А сейчас там была партизанская явка.
Машина шла тяжело. Накатанной колеи практически не было. Сосновский угадывал ее по едва заметным гребешкам снежных наметов.
— Все, — сказал он, останавливаясь, — дальше своим ходом. — Он вышел из кабины, окликнул ребят: — Вылезай, братва. Можно курить.
— А оправиться можно? — первым спрыгнул на снег разведчик Кочетов. — А то я чуть в штаны не напрудил, с тоски. А мудрость народная гласит: сухие порты лучше мокрых. И еще: лучше вовремя пописать, чем не вовремя по…
Этот сразу освоился — мгновенно верхним чутьем понял, что опасности здесь большой нет, а малой он нигде не боялся.
Следующим выпал пленный. Он дрожал, и от него дурно пахло. Кочетов покачал головой насчет не вовремя.
— Дубиняк, что он показал?
— Много чего, командир, — брезгливо ответил Дубиняк и с омерзением сплюнул: — «Муттер, киндер, арбайтер. Гитлер капут».
— Они все так много говорят, когда в плен попадают, — сказал Сима и, морщась, заговорил по-немецки. Выслушал сбивчиво-горячие ответы. Покачал головой и сказал Сосновскому: — Пусто-пусто, командир.
— Дубиняк, отведи его в лес.
— Мараться еще об него. Марширен, фриц!
— Нихт Фриц! Их бин Ганс!
…Дубиняк вернулся один, брезгливо оттирая финку снегом.
— Значит, так, — распорядился Сосновский. — Ты, Сережа, остаешься здесь, беречь машину. Она нам еще может пригодиться.
— А чего мне здесь делать, командир?
— Сиди в кабинке, время от времени прогревай двигатель. А если кто здесь появится, гони их всех к… чертовой матери. Ясно?
— Да не знаю я по ихнему чертову матерь! Как их гнать-то?
— На раз — орешь: «Хальт!» На два — даешь очередь в воздух. На три — очередь на поражение. Мы будем поблизости, услышим и на счет четыре тебя поддержим. Понял?
— Яволь, герр официр!
— Ну вот, а говоришь, языка не знаешь.
— Командир, — напомнил Сима, — пока совсем не стемнело, надо кузов осмотреть. Что они там везли.
— Давайте, по-быстрому. Ребята, помогите обер-лейтенанту ящики пошмонать.
— Жратва там, — поспешил Кочетов, — не иначе жратва — больно добротно упаковано. И запах я учуял.
Да, упаковано было добротно. И пахло серьезно. Церковная утварь, иконы, сервизы старого времени, серебряные подсвечники, картины, статуэтки…