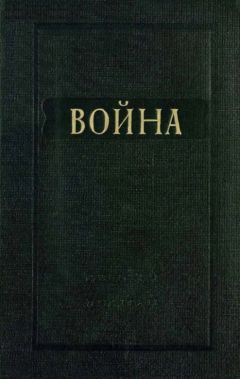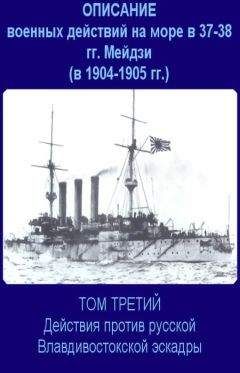Н. Брыкин в своих рассказах «Малиновые юнкера» рисует развал фронтов царской армии в 1916 году. Он показывает рост революционного сознания масс накануне социалистической революции.
М. Зощенко создает своеобразный образ российского Швейка, Назара Ильича — господина Синебрюхова. Этот трусоватый обыватель выбит войной из жизненной колеи и всеми средствами стремится приспособиться к новым условиям.
Советские писатели не ограничиваются показом военных событий, исключительно связанных с Россией. Как мы можем видеть и по роману Федина «Города и годы» и по повести Н. Тихонова «Война» — наша литература переносит читателя и в немецкую действительность этих лет и во Францию.
Художественные очерки В. Финка «Комбатанты» ярко показывают, как зарубежная буржуазия стремится путем пышных ритуалов в честь «неизвестного солдата» развеять в массах тяжелые воспоминания о страшных испытаниях мировой войны.
Б. Лавренев в повести «Стратегическая ошибка» переносит читателя из русской фронтовой действительности в кулуары английского адмиралтейства. На примере нарочитого пропуска в Турцию английской эскадрой двух германских крейсеров — «Гебена» и «Бреслау» — он ярко вскрывает двуличность империалистических дипломатов этой былой союзницы царской России.
Повести М. Слонимского, А. Ульянского, В. Финка, П. Евстафьева, Л. Славина — все они дают освещение трагических событий мировой войны, все они стремятся показать подлиннее лицо ее участников. Все эти произведения, объединенные в данном сборнике, стремятся в той или иной мере дать реалистическую зарисовку событий мировой войны. Эти произведения — яркое свидетельство того, что наш советский писатель вплотную подошел к ответственной задаче художественного рассказа о величайшем опыте империалистической бойни 1914–1918 годов.
Ленинская правда о войне, в той или иной мере отраженная в ряде произведений советских писателей, подымает их произведения на большую высоту. Эти произведения говорят о том, что нет никакой иной гарантии против войны, кроме победы пролетарской революции, кроме борьбы за еще большую военную мощь социалистического государства. Эту грозную правду человечество с особой ясностью видит сейчас, когда мир снова объят пламенем новой империалистической войны. Слова Ленина, сказанные восемнадцать лет тому назад, остаются незыблемыми и поныне: «Нельзя вырваться из империалистской войны и из порождающего ее неизбежно империалистского мира… нельзя вырваться из этого ада иначе как большевистской борьбой и большевистской революцией».
О. Цехновицер
Эшелон был в пути уже пятый день. С непонятной медленностью двигался он к западу, часто подолгу ждал на полустанках. Большие поля тянулись по сторонам дороги. Сухие копны хлеба, похожие на юрты кочевников, стояли прямыми рядами. Поля уходили в даль. Потом начинался лес. В кустах росла ежевика, и когда поезд останавливался, солдаты прыгали вниз и собирали темные ягоды. Вокруг была тишина. Ночи наступали теплые, ясные. В небе высыпало много звезд. В теплушках не зажигали огней. Во мраке блестели огоньки папирос, слышались тихие голоса. Засыпал эшелон, и вдруг лязгали буфера, повизгивали колеса, паровоз неторопливо тащил вагоны. Как-то ночью видели в лесу костер. Два человека сидели неподвижно, охватив руками колени. Из лесу выскочил — крупный пес, долго бежал рядом с вагонами, потом прыгнул в кусты, исчез. На больших станциях приходили толпы с оркестрами, флагами, пели гимн, кричали «ура». Женщины раздавали булки и папиросы. Пока стояли в каком-то городе, из женского монастыря монашки привезли целую корзину образков, кланяясь, совали их солдатам. Примчалась коляска, запряженная парой караковых лошадей. Человек в белой фуражке выбежал на перрон и пожимал руки офицерам.
— Ах, господа, господа, как я вам завидую! — громко восклицал он. — Как я вам завидую!
Его глаза увлажнились, он пригласил офицеров к себе.
Представил им свою жену, короткую, кривоногую, чем-то напоминавшую кактус.
За станционными зданиями на круглых грязных площадях, одинаковых, кажется, на всех захолустных российских станциях, стояли мужицкие телеги. Маленькие пузатые лошадки были привязаны к обгрызанным столбам. Их владельцы опасливо вылезали на перрон, в недоумении и страхе оглядывали длинную теплушечную цепь, солдат, сидевших на полу теплушек и свесивших наружу ноги, походные кухни, стоявшие на открытых платформах.
Пожилой рыжеватый крестьянин, одетый, несмотря на лето, в полушубок, вытирая шапкой слезящиеся трахомные глаза, рассказывал солдатам, что у них в деревне в течение трех дней забрали почти всех мужиков.
— Идите, значит, и идите, — негромко жаловался он. — А зачем нам идти? Ничего нам неизвестно и не объяснено. Это, дорогие, все равно как в сказке. Налетел змей-горыныч, выхватил любого и унес… Горько, ох, как горько мужику.
Шея у него была коричневая, обожженная солнцем, лицо сухое, потрескавшееся, на щеках и подбородке заросшее бородой. Солдаты молча смотрели на него. Среди них было много запасных, только-только оставивших свои деревни, и им был близок и весь до мелочей понятен этот мужик, летом ходивший в полушубке. О войне они знали не больше его, хотя были в защитных рубашках, вооружены и должны были в ближайшие дни столкнуться с тем неведомым врагом, о котором с таким недоумением говорил мужик.
Ночью проезжали мимо большого завода. Красные, налитые огнем окна были совсем близко от дороги. Тяжелое гудение машин доходило до вагонов. Поезд медленно прополз через полустанок. В скупом сеете керосиновых фонарей солдаты увидели толпу. Люди стояли тесно сбившись. Полустанок и завод скрылись в темноте, мимо поплыли насыпи, груды сложенных решетчатых щитов, низко над землей показались и прошли зеленые фонарики стрелок.
Все ближе подъезжали к границе. Пути были забиты эшелонами. На маленькой станции скомандовали выходить, брать с собой вещи. Солдаты шумно вылезали из вагонов, торопливо строились вдоль пути, поправляли походные мешки, смотрели на опустевшие теплушки, в которых уже обжились. Многие оставляли их с таким чувством, словно бросались в воду. Другие смеялись, были довольны.
— Надоело ехать, — сказал кто-то. — Скорей бы нам до немца добраться. Все они к нам ездиют, надо теперь нам посмотреть, как они живут.
— Еще как встретят, — насмешливо ответил второй, — мы ведь незваные.
— Встретят, — уверенно сказал первый. — Нас ведь мильон. Вот она, русская силушка.
Офицеры шутили с солдатами, девятая рота запела лихую песню. Карцев, становясь в ряды, как-то по-новому почувствовал в руке тяжесть винтовки, на поясе вес подсумков, на груди патронташ, все тридцать гнезд которого были набиты боевыми остроконечными патронами.
Рядом стоял Гилель Черницкий. Черницкий был спокоен, даже весел, он похлопывал по спине скисшего Самохина и говорил:
— Не пучи глаза, а то они у тебя выскочат и ты не увидишь немцев. Достань-ка махорку. Или, постой, у меня есть папиросы. Не робей, Самохин!
Самохин за неделю до выступления в поход вернулся в роту из госпиталя, в котором лечился около двух месяцев. Улыбаясь, он стоял перед Черницким и закуривал. Бородатые запасные оглядывались в смятении. Возможно, что им мерещились немцы. Они не знали, что еще многие десятки километров отделяют их от границы и от противника. Кадровые солдаты весело подсмеивались над ними. Кто-то плясал под губную гармошку.
Машков ходил вдоль рядов. Надувал щеки. Взвод его разросся — в нем было шестьдесят человек, и он почувствовал себя чуть не ротным командиром.
В стороне от солдат вокруг командира эшелона, толстого пожилого подполковника Смирнова, собрались офицеры. Смирнов сообщил, что отсюда отряд пойдет походом на соединение с другими эшелонами полка. Подполковник отяжелел, отвык от походного снаряжения, новый кожаный пояс туго сжимал его брюхо, он был сердит, беспокоен. Ротные командиры смотрели внимательно и озабоченно. Молодые подпоручики и поручики были радостно возбуждены. Война манила их, награды и героические бои, лихие разведки, стремительный поход через неприятельскую землю на Берлин мерещились им в розовой дымке. Боевой походкой, рисуясь перед самим собой, прошел толстенький поручик Жогин. Нетерпеливо ждал приказа о выступлении подпоручик Руткевич, длинными пальцами в лайковой перчатке перебирая темляк шашки. Спокойно поглядывал на Смирнова старый капитан Федорченко. Для себя он твердо решил, что эта война поможет ему добиться заветной мечты — штаб-офицерского чина.
«Пускай молодежь лезет под пули, — думал капитан, — пускай побесится. Я пойду себе тихонечко, смирненько. Слава богу, в японской уцелел и эту кампанию проделаю. На рожон не попру, даст бог, батальон через месяц освободится, тогда риску меньше будет. Быть тебе полковником, Федорченко, ох, быть».