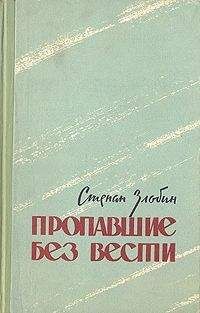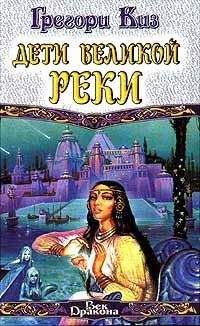— «Катюши»! — почтительно произнес шофер.
— Да, это си-ила! — сказал и Бурнин.
— Скажите, товарищ майор, а вы видали «катюши» в действии? — спросил генерал.
Это в те дни был общий вопрос тыловых людей. Прославленное оружие интриговало всех.
Новый начальник штаба совсем не стеснялся обнаружить, что он еще не был ни дня на фронте. Он слушал Бурнина с таким же простодушным вниманием, как и другие тыловики. Но вдруг оборвал его почти на самом эффектном и вдохновенном месте рассказа вопросом:
— А как исчисляется залп батареи «катюш» в пересчете на минометы и гаубицы?
— Я не подсчитывал, товарищ генерал, — чуть растерянно возразил Бурнин.
— Напрасно. Очень важно учесть фронт, и глубину поражения, и быстроту переноса огня. Это же внесет существенные поправки в расчеты по планированию операции, — загорелся Балашов. — А может быть, при решении боевой задачи следует приравнивать действие этого оружия не к артиллерии, а к танковому удару, чтобы увязать его взаимодействие с пехотой!
«Теоретик!» — подумал Бурнин.
И не то чтобы он не любил теории. Штабист по призванию и образованию, он понимал это стремление Балашова к теоретическому анализу, но в последнее время он видел, что оперативное руководство боем соединений и частей не оставляет времени для теоретических расчетов.
Спокойный, всегда готовый к любой внезапности, принимающий мгновенные решения, практик штабной работы, генерал Острогоров Бурнину казался при существующей обстановке самым нужным, почти что незаменимым. Как же Генштаб ставит над ним человека, который не испытал ни горечи поражений первых недель войны, ни опыта выхода из окружений, не выстрадал трудного умения выстоять, не пошатнуться под страшным ударом стального молота в грудь!..
«Обида будет великая нашему Острогорову! — подумал Бурнин. — Не к добру это в штабе. Ведь так все сработаны были, так как-то сжились».
Гул зенитных орудий в районе дороги умолк. Они тронулись дальше. Генерал продолжал расспрашивать Бурнина. Вопросы его касались не только новых родов оружия, он спрашивал и о характере и степени боевой подготовки поступающих пополнений, об отношениях между командирами в штабе армии…
Глубокой ночью они повернули с шоссе на сельский большак, на котором машину бросало, как лодку в высокой волне.
— И много таких дорог? — спросил Балашов. — Большинство?
— Пожалуй, — ответил Бурнин.
В ту же минуту, спустившись в лощину, машина захлюпала в вековечном болотном месиве, и вся колонна остановилась. Оказалось, что впереди застряли машины с боепитанием. Водители во мраке ночи вдоль дороги рубили деревья и подстилали гать.
— А если завтра идти в наступление, товарищ майор, ведь на эти дороги ляжет тройная и четверная нагрузка… Как же тогда? — вдруг задал вопрос Балашов таким тоном упрека, как будто именно он, Анатолий, и был виноват в том, что наши дороги так плохи.
— Тут ополченские части стоят, товарищ генерал, — невольно оправдывая кого-то, возразил Анатолий. — Эта дорога — их дело, не нашего, а Резервного фронта.
— А в нашу армию тут же идет боепитание?
— Частично. Процентов на двадцать пять.
— Н-да… Значит, удельные княжества на Руси? — иронически вздохнул генерал. — Пойду размяться, — сказал он, выходя из машины.
— Все по-старому! — ворчал генерал, наблюдая работу шоферов на дороге. — Да, по-старому… А по-старому-то нельзя! Сегодня подгатим, а завтра опять подгадим… Все авось да авось, а с авося-то как бы не сорвалось!
— Так точно, товарищ начальник! — неожиданно громко выкрикнул рядом какой-то боец, не разобрав в темноте знаков различия на петлицах Балашова.
— Что «так точно»? — спросил генерал.
— Складно сказали, а складное слово-то молвится неспроста: в нем правда! Каждую ночь вот так — то в одной, то в другой лощинке, а Смоленщина вся на увалах да на лощинках… Вот то-то! Нешто так навоюешь… На прошлой неделе в такую же вот грязюку диверсант колючек насыпал — десять машин из строя! Вот те авось!
— Вот так, товарищ майор! — словно опять-таки укоряя Бурнина, сказал его спутник.
И Анатолий был рад, когда под утро они добрались наконец до штаба фронта, куда прежде всего явился вновь назначенный генерал.
В тот же день, уже в штабе армии, Бурнину довелось быть случайным свидетелем первой встречи Острогорова с Балашовым, когда тот вошел в избу, занимаемую начальником штаба.
— Вот видишь, прислали меня, — поздоровавшись, виноватым каким-то тоном сказал Балашов.
Угрюмый и угловатый, смуглый до черноты, от притока крови к лицу Острогоров почернел, казалось, еще больше. На его худой шее, как челнок, вверх и вниз засновал кадык.
— Ну что ж, поработаю под твоим руководством, — сказал Острогоров, и эти его слова прозвучали каким-то насмешливым вызовом.
— Я, Логин Евграфович, не сам напросился на эту должность, — резко вспыхнув, сказал Балашов. — Назначил Генштаб. Я ехал и волновался. Ведь я человек, что называется, «необстрелянный», мне бы к тебе под начало, а член военного совета Ивакин и командарм Михаил Михайлович встретились мне в штабе фронта, подбодрили. Говорят: у тебя, мол, помощник будет опытный, умный, мол, ты не робей! Я так обрадовался, что буду работать со старым товарищем…
Острогоров от этих слов его будто смутился.
— Ты, Петр Николаевич, не так меня понял как-то, — возразил он. — Да что ты, право! Я тоже рад…
Но, несмотря на явное желание Острогорова найти новый тон, он так и не поднял глаз. Со своего огромного роста он, стоя у стола, смотрел не в лицо собеседника, а в карту, лежавшую перед ним.
«Может быть, в самом деле это уже неотъемлемая и неодолимая штабная привычка — смотреть в карту», — думал Бурнин. Он чувствовал себя среди них не на месте и ускользнул при первой возможности, оставив своих генералов наедине, чтобы по приказанию Острогорова подать материалы для информации нового начальника штаба детально о всей обстановке.
«Ничего, — думал он, утешая себя, — обойдется! Поговорят, припомнят былое, сойдутся, сдружатся!»
Обстановка и состояние армейских частей в момент, когда Балашов принимал штаб армии, были сложные.
В ходе двухмесячного Смоленского сражения их армия понесла большие потери. Последний, десятидневный натиск в направлении Духовщины, который отвлек к северу фашистские войска из-под Ельни в момент удара другими армиями на Ельнинский выступ, еще больше ослабил численный состав частей и соединений. Бойцы и командиры устали. Переход к обороне, которая длилась уже четвертый день, хотя и дал передышку, но не улучшил положения с личным составом. Пополнения подходили пока малочисленные. По-видимому, фашистское наступление на юге оттягивало туда основные массы резервов Главного командования. Резервы фронта, должно быть, были невелики, а может быть, даже исчерпаны.
Единственные пополнения, которые прибывали в последнюю неделю, — это были части из Резервного фронта: запасники и московские ополченцы. Эти люди готовы были стоять против фашистов до последнего вздоха, но было бы с чем стоять! Ни автоматического стрелкового оружия, ни достаточно минометов. Даже простых винтовок и то не всегда хватало. Артиллерия частично вышла из строя и требовала ремонта или в большом количестве была захвачена немцами в период смоленских боев. Оставалось менее десяти орудий и минометов на километр фронта…
Вот что представляло собой состояние армии.
Когда из Ставки получили приказ остановить наше наступление в районе Ярцева — Духовщины и закрепиться, — во многих частях, по ходу боя, позиции оказались на этот момент не очень удачны. Но никто не разрешал малейшего отхода, даже малым подразделениям и даже ради того, чтобы улучшить позиции. Выступы и углы оставались опасными изъянами в линии фронта, однако какое-то фетишистское отношение к самому слову «отход» не давало возможности их устранить, а выровнять линию фронта продвижением вперед не удавалось. Несколько внезапных бросков на отдельных участках силами от роты до батальона не дали никаких успехов.
Сведения, поступавшие через разведку, говорили о том, что немецкие части на этом участке также потрепаны и устали. Но явным было преимущество немцев в технике: плотный автоматный и пулеметный огонь, насыщенность артиллерией и минометами, высокая маневренность в переброске резервов на опасный участок боя. Их пехоту поддерживали танки и авиация, которых у наших почти не было.
Такую картину рисовал перед новым начальником штаба армии генерал Острогоров, когда Бурнин, возвратясь, подал штабную документацию.
— А как у нас дело с командным составом? — спросил Балашов.
— Не сберегли мы командный состав, — признал Острогоров. — Не сумели сберечь. Храбрые были люди. Ответственность на себя принимать не страшились, но понимали ее однобоко — как личную смелость. Пример показать стремились бойцам, вылезали вперед. Так и устав велит, и уж очень терзала всех злость на это проклятое отступление… Пока спохватилось командование, а командиров повыбили…