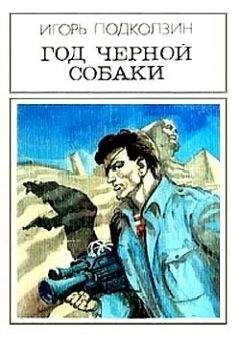год он погиб в Таллинском походе, таранив своим торпедным катером фашистский миноносец. Ошибся ты, старина, надо мной тоже подшутила судьба. Все было прекрасно, но потом Ирину как подменили. Начались разговоры: сейчас не до любви, когда идет война и льется кровь. Словно в гражданскую: поженимся после победы мировой революции. А перед самым решительным объяснением она исчезла вообще.
А вот теперь именно он доставит ее в тыл к гитлеровцам. Рассказать кому-нибудь — не поверят. Невероятно.
* * *
Накрапывал мелкий дождь, капли нудно барабанили по холодной блестящей палубе подводной лодки, все кругом затянуло чернильной промозглой сыростью, к запаху соляра примешивался запах мокрого металла. Запахнувшись в дождевик, надвинув бескозырку на самые глаза, у трапа стоял вахтенный матрос. Из темноты со стороны штаба бригады показались три скорее тени, чем фигуры людей, которые медленно приближались к стоящему у пирса кораблю.
— Стой! Кто идет? — матрос вскинул винтовку.
— Адмирал. Вызовите капитан-лейтенанта.
К трапу подошли командир бригады и двое в резиновых плащах, с накинутыми на голову капюшонами.
— Есть вызвать командира, — узнав комбрига, моряк нажал кнопку сигнала.
Минуту спустя из люка центрального поста показался Ольштынский. Он вылез на площадку мостика и по деревянным, покрытым пеньковым ковриком сходням сбежал на причал.
— Товарищ капитан первого ранга, лодка «Щ-17» к походу готова, — он отступил в сторону. — Командир корабля капитан-лейтенант Ольштынский.
— Добро, — произнес комбриг, — принимайте пассажира.
От группы отделилась фигура и пошла к трапу. Ольштынский узнал Ирму.
— Отходите, командир, желаю удачи, — адмирал пожал ему руку и, повернувшись к спутнику, что-то сказал.
— Вот сюда, пожалуйста, — Ольштынский поддержал Ирму под локоть. — Осторожней, здесь скоб-трап.
Они подошли к открытому люку и остановились.
— Я спущусь первым, если вы не возражаете, а вы сразу за мной. Для вас уже приготовлено место.
Он спустился в центральный пост и крикнул штурману, заменявшему заболевшего старпома:
— Играйте аврал, сейчас снимаемся и уходим.
Затем повернулся к стоящей рядом гостье:
— Пойдемте, я провожу вас.
Ирме сначала показалось, что она попала в огромный железный туннель, все стенки которого были сплошь покрыты приборами, трубопроводами и различными маленькими и большими маховичками и клапанами. Сверху тускло горели забранные сеткой лампочки, под ногами блестели рифленые стальные листы пола.
По сигналу подводники разбежались по своим местам.
Ольштынский привел девушку в свою каюту и, пропустив вперед, сказал:
— Располагайтесь как дома. Извините, мне надо на мостик. Если что потребуется, вызовите рассыльного, вот здесь кнопка.
— Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, мне ничего не нужно, спасибо.
Командир, немного помедлив, закрыл дверь и ушел в центральный пост.
Наверху что-то громыхало. Мерно застучали дизели, лодку качнуло, она плавно отошла от пирса и скрылась за сеткой дождя.
«Ну вот и поехали», — подумала Ирма и, отбросив капюшон, стала снимать плащ…
С рассветом лодка застопорила ход и легла на грунт. До предполагаемой точки высадки разведчицы оставалось миль двадцать. После завтрака личный состав занимался своими делами по расписанию. Обойдя все отсеки, Долматов зашел в центральный пост. В привинченном к палубе полумягком вертящемся кресле, прислонившись к переборке, подложив руку под голову, дремал командир. При входе замполита он открыл глаза, зевнул и, проведя ладонями по лицу, спросил:
— Ну, как дела?
— Как всегда, порядок на полубаке или, как часто пишет наша флотская газета, «моряки живут полнокровной жизнью».
— Отлежимся здесь до темноты и пойдем в квадрат. За пару миль до назначенного пункта нырнем, прислушаемся и проследуем в точку. Потом всплывем и свяжемся с берегом. А дальше — точно согласно инструкции. Так?
— Думаю, что так, — старший лейтенант присел рядом на складной стульчик.
— Как, интересно, себя чувствует пассажирка? — спросил Ольштынский.
— А чего ей чувствовать. По-моему, спит. Женщины, мне всегда казалось, очень любят спать — это у них как лекарство от всех невзгод и болезней.
— Вряд ли. Во всяком случае, мне бы на ее месте было не до сна, все-таки не в парикмахерскую на перманент идет.
— Что касаемо перманента, то оный у нее отсутствует. А вот тебе и на своем месте вроде не до сна?
— Это почему же? Ты о чем? — подозрительно прищурился Ольштынский.
— Да все о том. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне показалось, что вы знаете друг друга.
— Считай, что тебе показалось. Понял?
— Что ж не понять. Значит, вы знакомы, это точно. Почти с начала войны мы служим вместе. Да и, кроме того, чувств ты своих скрывать не умеешь. Почему и начштаба на тебя зуб заимел. Что на витрине, то и в магазине. Чего не скажешь о ней. Даже бровью не повела, молодец.
— Домыслы? Или вымыслы?
— Логика, дорогой, логика и сопоставление фактов. Я, как ты знаешь, до войны в газете работал, в отделе быта. Во! Заниматься приходилось всем, чем угодно. Каких только людей не перевидел. Придет к тебе какой-нибудь тип, ну честь по чести ангел ангелом, а тебе что-то внутри нашептывает: берегись, дьявол. А иной раз наоборот, с первого взгляда думаешь: прохвост — пробы ставить негде, а разберешься — человек-то вполне нормальный, стоящий. Так и постигал человековедение.
— А бывало, что ошибался?
— Бывало, особенно вначале, и очень часто. Потом накопил опыт, научился приглядываться, получил, как говорится, профессиональные навыки, сразу легче стало.
— И все пошло как по маслу, накладок не было?
— Ну как же, были. Люди все разные, по типовому проекту их не делают. Случались и недоразумения, но, по крайней мере, старался, чтобы их было как можно меньше. В нашем деле журналистском можно таких дров нарубить, что потом сам черт не разберет. Ведь люди приходят за помощью, за советом, а иногда просто выговориться.
— И что же мне посоветуешь? Исповедываться тебе, как папе римскому?
— Ему, папе римскому, кстати, такие, как ты, не исповедуются. К руке не подпустит. А вот с девушкой поговори. Сам знаешь, на что идет она, да и ты тоже. Может быть, и видитесь в последний раз. Обоим легче станет. Нет ничего хуже неясности, а мне кажется, в ваших отношениях она есть.
— Ты думаешь?
— Я всегда думаю и тебе советую. Голова дана не только для того, чтобы фуражку с крабом носить.
— Спасибо, комиссар, хороший ты все-таки человек. Впрочем, еще Василий Иванович Чапаев говаривал: такому командиру, как я, какого-нибудь завалящего замухрышку не пришлют. А?
— И за это благодарствуйте. Не пыжься особенно — лопнешь. От скромности ты не умрешь — это уж абсолютно верно.
* *