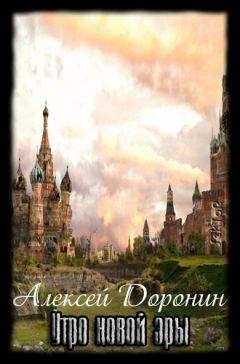— Эх… А вот у меня баба была… — замечтал, глядя в бревенчатый потолок Хоффер, — По сраке ее шлепнешь утром — жопа до вечера колыхается. А как раком ее поставишь — она так сожмет, еле-еле ходишь в ней. Туда-сюда, туда-сюда… А титьки? Титьки, что голова младенца! Вот как у Фрица, ей-богу — не вру!
— Хоффер, заткнись, — просипел Курт, тужась и глядя на покрасневшее лицо Фрица.
— Расслабиться не можешь? — приподнял голову Шейдингер.
— Да иди ты! — отмахнулся Курт.
А солдаты заржали. Коротко так и быстро. Словно взрыв малого калибра.
Наконец, бурление в животе закончилось. Причем, так же внезапно, как и началось. Курт встал, подошел к лежанке, шлепая босыми ступнями по воде цвета дерьма, поколебавшись, посмотрел на одежду. А смысл? Смысл ее надевать? Он натянул сапоги на голые ноги, а на голову — стальной шлем.
Застегивая ремешок под щетинистым подбородком он вдруг поплыл. Ему вдруг привиделось то, что он уже видел. Он вдруг увидел, как Шейдингера раздует воздухом из пробитых легких и он будет лежать на окровавленной земле, раздуваясь с каждым вздохом и русская пуля будет ворочаться в его груди. А Хоффер будет собирать кишки вместе с грязью и засовывать их в распоротый живот. А Фриц — Бог мой, как же у него фамилия? — лопнет расколотым черепом под русским прикладом. И никто, никто из них никогда не вернется домой, потому что дома — больше нет. Их дом отныне — Россия.
Курт потряс головой и видение исчезло. Он глянул на висящий на гвозде медальон и вдруг понял: «Надену? Погибну!». И не надел.
— Милый, что тебе приготовить на ужин? — сонно прошептал голый Шейдингер, ежась под мокрой шинелью.
— Куропаток по-французски.
Бог мой… Мой Бог? Мой ли этот Бог, засунувший меня, молодого парня в эти проклятые болота, заставивший меня пятиться по траншее голым с винтовкой наперевес? Мой ли это Бог, заставивший меня прятаться от своего собственного дерьма? Мой ли это Бог, убивший русскими руками моих друзей? Ханс, Петер, Франц — скажите мне — мой ли это Бог?
Или этот Бог — русский?
Гот мит унс? Найн. Прав был сумасшедший философ. Бог — умер. Нет. Бог — не умер. Он — перебежчик. Он перебежал в тот самый день, когда мы бросили его сами. В тот самый длинный день. А может быть, еще раньше? В тот день, когда дети пошли в школу? А может еще раньше? В тот день, когда ОН стал вместо НЕГО Богом нации?
За спиной журчало выливаемое кишачье из ведра, когда вдруг Курт увидел как из серой тьмы, словно порождения тьмы, освещаемые внезапно выглянувшим закатным, цвета багровой крови, солнцем, вырисовались жидкой цепью силуэты в ненавистных длинных шинелях с трехлинейками наперевес.
— Алярм! Алярм, ферфлюхте швайнехунд!
Загрохотали пулеметы боевого охранения с флангов, защелкали редкие — пока редкие! — карабины, но вот уже разворачивают ротные и батальонные минометчики свои машинки, вот уже из блиндажей и землянок начинают выскакивать камрады, срывая длинноручные гранаты…
Вот уже и сам Курт мчится к брустверу, шлепая по мокрым бедрам мужским дос…
Да не было у Курта Женщины. Ну не считать же за Женщину ту польскую проститутку из Позена? Он даже не успел толком испугаться тогда, когда все закончилось. Она даже не вспотела. И он навсегда запомнил ее презрительный взгляд.
Как же ее звали? Барбара? Магда?
Нет… Магдой звали ту девочку на Рейне. Ту девочку. На том Рейне. В тот день.
Прости меня, Магда… Жаль, что так и не смог стащить с тебя трусики. Жаль, что ты так и не стала Первой Женщиной. Жаль, что я испугался быть твоим Первым Мужчиной. Жаль… Жаль…
Как жаль… Жаль, что все так случилось. Магда, Магда, как ты, Магда? Какая же у тебя была фамилия? Какая же была у меня фамилия?
Этого всего Курт никак не мог вспомнить. Ему некогда было вспоминать, потому как он вдруг голым выскочил на бруствер траншеи с «Маузером» наперевес и побежал навстречу большевикам. Каска больно била по вискам и затылку, но он бежал.
Где-то там, далеко в тылу, обескровленные взводы первой линии поднялись за голым своим собратом в контратаку, такую же бессмысленную и беспощадную, как вся эта война. А еще дальше кто-то в витых погонах начал перебрасывать дополнительные резервы на участок прорыва. А еще дальше — совсем-совсем далеко — кто-то бесноватый орал на своих генералов.
Штык, русский штык, вошел Курту прямо в солнечное сплетение. Последнее, что он услышал в своей короткой жизни, было:
— Совсем фрицы охренели, голыми в атаку бегают.
Он не увидел, как русские взяли первую линию траншей, как вели Шейдингера, поднявшего руки и молившегося про себя — «Аве, тебе Мария, кончилось все!», как дострелили тяжелораненного Хойфера, как врубили саперной лопаткой лейтенанту Беккеру поперек лица, как добили прикладом Фрица…
Бог мой, как фамилия у тебя, Фриц?
Фамилии, фамилии… Семьи, в переводе с немецкого.
Фамилии…
А фамилии в эти минуты собирали посылки. «Вот тебе вязанные носки, Фриц, шерсть мы получили по разнарядке от партайкомитета, как семья фронтовика. Я связала их сама из украинской шерсти…», «Курт, мы тебе посылаем французские оливки, до войны мы не могли тебе позволить, но сейчас…», «Дорогой отец! У нас все хорошо, мы ходим в школу и уже получили свои первые отметки, а сосед наш, Хайнц, попал в госпиталь, потому что…»
А потом были черные строки, вымаранные военной цензурой. И строки эти постепенно пухли, пухли, расширяясь, растекаясь чернильным пятном зрачков по белкам глаз.
Фриц, Курт, Франц, Ханс…
Курт же смотрел неживыми глазами в низкое русское небо, серой шинелью раскинувшее свои полы над мертвыми полями.
Кого-то встречают ангелы.
Кого-то — черти.
Никто и никогда не узнает — какая была твоя фамилия, Курт.
Все кончилось, Курт.
Все — кончилось.
Все.
Кончилось.
Магда, Магда… Где ты, Магда?
А Петербург? А нету больше этого Петербурга. И не будет никогда. Только Ленинград и…
И только Магда, Магда…
С кем ты, Магда?
День седьмой
Ровно к десяти приходит «Урал». Один. Нас тут всех человек семьдесят. В кузов мы ни разу не входим.
Решение принимаем просто и быстро. Сначала мужики набиваются как сельди и нас везут до трассы. Там мы выгружаемся. Машина возвращается за детьми и женщинами. Мы шагаем в сторону поворота на Синявино. Стоять и ждать автобус — неохота. Хочется идти. Потому как хочется побыстрее закончить этот день. Мы его так ждем — захоронение — и почему-то так ненавидим, одновременно. Солнце щиплет щеки. Мы шагаем по трассе. Время от времени махаем руками.
Странно, но все, у кого есть хотя бы одно место, останавливаются. По одному мы запрыгиваем в «фольксвагены» и «тойоты». Здесь понимают, что такое война и кто мы тут такие, на этой войне.
Останавливается пустая «Газелька». Мы нагло оккупируем ее. За рулем кавказец. И тут мы узнаем его.
Этот парень нам возит продукты с оптовой базы. Ритка считает продукты, звонит в Кировск на базу, делает заказ. Этот парень привозит нам его.
— На захоронение едити, да? — с сильным акцентом спрашивает он нас.
— Туда, брат, туда! — перекрикиваем мы грохот раздолбанного кузова и мотора.
— Я вас до Молодцова подкину, дальше дойдете, да?
На это мы даже не рассчитывали.
Там от Молодцова пара-тройка километров до Синявино. До предчувствия бессмертия.
Парень за рулем извиняется и ругается одновременно. Если бы мы позвонили им заранее, то они чего-нибудь придумали и отвезли бы нас всех.
Я ему верю. Потому как каждый год от этой базы нам привозят бесплатно минералку и какие-нибудь плюшки-печенюшки. И тут же наглею:
— Так мы в четыре будем обратно добираться?
— В четыри?? — протягивает кавказец. — Я передам.
Потом мы едем молча, слушая какой-то азербайджанский рэп, долбящий из колонок.
В Молодцово он нас высаживает. На прощание белозубо улыбается:
— У меня тут дедушка ваивал!
— Тут лежит? — спрашиваю я.
— Нэт! На Родина лэжыт!
Потом машина пылит по дороге в сторону Кировска, а мы идем к мемориалу.
Гастарбайтеры, говорите? Ну-ну…
Прошли буквально метров сто. Остановился «Камаз». За рулем пацан-сержантик. Просто кивает нам. Без разговоров мы забираемся в крытый кузов. Там какие-то мужики в камуфляжах. Наши, похоже.
— Вологда!
— Вятка!
— Земляки!
Вот и познакомились.
За пять минут уничтожаем фляжку с разведенным спиртом. И тут же приехали. Чего там ехать-то?
Идем по аллее. Снова справа и слева могильные плиты с именами. С десятками, сотнями имен.
Какие-то работяги в оранжевых жилетах все еще докрашивают белилами бордюры. Из колонок, что около могилы, грохочет какая-то невыносимо траурная музыка. Всюду распорядители, направляющие приехавших людей к месту торжественного митинга: