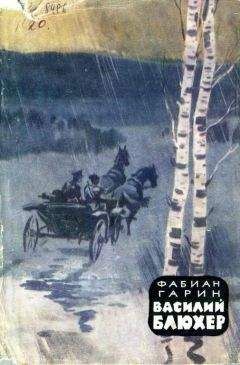— Я согласен с Георгием Васильевичем и передаю ему командование.
Каширин, наслышавшись про отвагу и успехи Блюхера, сумел порвать с братом и отцом и пришел сюда. И не жалел. Хотя Блюхер был скуп на ласковые слова, зато он не кичился, здраво рассуждал, прислушивался к советам и умел убедить спорщика. И вдруг какой-то Зиновьев! Не выйдет дело: ни он, Каширин, ни казаки не согласятся на замену Блюхера.
— Я возражаю! — заявил он. — Василий Константинович уже дважды побил Дутова. Казакам и хуторным это доподлинно известно, а вы, товарищ Зиновьев, для нас фигура, как бы сказать, новая.
— Вы беспартийный? — неожиданно спросил Зиновьев, и всем показалось, что он задал этот вопрос с целью застать Каширина врасплох.
— Я бывший казачий офицер и…
— Все понятно, — перебил Зиновьев.
— А вы дослушайте, — продолжал Каширин, немного волнуясь, — я, как вам сказал, бывший казачий офицер, но и коммунист с шестнадцатого года. Командовать я, бесспорно, умею лучше вас, а Блюхер, хотя и бывший унтер, даст мне десять очков вперед.
Спор грозил превратиться в серьезный разлад. Блюхер решил во что бы то ни стало предотвратить его. Но как? Либо уговорить Каширина, либо отказаться от своего намерения сдать командование Зиновьеву. Он обвел взглядом всех командиров, пытаясь прочесть в их глазах решение, но неожиданное появление Балодиса смутило его больше, чем вопрос о назначении главкома. Матрос вошел со смертельной усталостью на лице и тихо произнес:
— Отряд медленно отходит с боем… Елькин убит.
Слова Балодиса не сразу дошли до сознания Блюхера. Не придав им значения, он продолжал совещание и тоном, не допускающим возражений, сказал:
— Я пойду с челябинским отрядом навстречу отступающим, а товарищу Зиновьеву принять на себя командование. Помощником его назначаю Каширина. План наступления на Оренбург я разработал. Все свободны, а Зиновьева и Каширина прошу остаться.
Блюхеру не пришлось идти к Бузулуку — белочехи, заняв эту станцию, остановили на время свое наступление.
События заглушили в памяти Василия воспоминания о юных годах. Да и когда было предаваться воспоминаниям, если каждый день приносил такие неожиданности, что от них голова шла кругом. Жил бы он в Питере — может быть, и вспомнил учителя Ковалева, тетю Лушу, Настеньку и, пожалуй, купца Воронина. Но за несколько тысяч верст от столицы их лица стерлись в памяти, как медные монеты от времени. Впрочем, Блюхер не вспоминал и тех, с кем он сошелся незадолго до революции. Клавдия, Нагорный, Кривочуб казались уже далекими призраками. Быть может, потому, что Цвиллинг, Колющенко, Васенко и Елькин вытеснили их, а теперь их место уже заняли Томин, Шарапов, Каширин, Павлищев, именно те, с которыми ему приходилось ежедневно встречаться. Он думал не о прошлом, а только о настоящем и о тех, кто свершал это настоящее, а настоящее было столь же прекрасно, сколь и опасно. Ничего, что он, Блюхер, очутился сейчас в очень тяжелом положении. На юге и востоке — банды Дутова, на севере и западе — белочехи. «Нам сдаваться нет охоты!» — вспомнил он стихи, читанные Нагорным. Нет, не сдадимся, ведь нам о мировой революции думать надо. Жаль, невыразимо жаль, что гибнут лучшие командиры отрядов. Погиб не просто хороший парень Елькин, а коммунист и солдат революции, который в тюрьме и на каторге верил в победу рабочего класса. Но и кручиниться нельзя, надо идти на выручку осажденным. Времени в обрез, а тут еще Балодис в который раз пытается рассказать, как Елькина убил какой-то бородач. Не все ли равно, как убил, ясно лишь одно — нет больше Салки, чудесного товарища.
— Так что делать с этим гадом? — снова спросил как бы виновато Балодис у Блюхера. Ему казалось, что главком не простит ему смерти Елькина.
— Ты про кого?
— Толкую вам, что живьем схватил того гада, который застрелил Елькина в упор.
— Ну и что?
— Как что? Я его притащил сюда, а Кошкин связал.
— Напрасно тащил. Надо было давно разменять, — очнувшись от мыслей, скороговоркой произнес Блюхер.
— Так видать, что лихая собака, а с такой хоть и шерсти клок. Идейная контра! Его по кумполу стукнуть разочек — все выложит про белочехов.
Блюхер призадумался: «Почему бы не допросить этого пленника? Авось расскажет, с чего это чужаки подняли мятеж».
— Ну, приведи! — сказал он без особой заинтересованности и присел на большой, обтесанный дождями и ветрами камень.
Пленного привели. Он был одет в засаленный френч и чрезмерно широкие штаны, заправленные в сапоги. На голове непокрытая копна волос. Обросший светлой бородой, он напоминал священника, на которого надели полувоенный костюм.
— Развяжите его! — приказал Блюхер. — Никуда он не убежит.
Пленник размял онемевшие руки, — Кошкин не пожалел сил, чтобы связать его намертво, — и подобрал волосы назад привычным, очевидно, движением.
— За какие грехи попались, батюшка? — с усмешкой спросил Блюхер.
— Не вашего ума дело, — грубо и безбоязненно ответил бородач.
— Он нас за дураков считает, — вмешался Кошкин. — Пока лежал связанным, все норовил мне втолковать: дескать, дергают вас коммунисты за веревочку, как куклу, а вы руками и ногами машете.
— Мы с ним сейчас поговорим по душам. — В словах Блюхера прозвучала издевка, — мол, я тебе покажу кузькину мать.
— Я не духовного звания, поэтому беседа наша будет носить строго материалистический характер.
— Отставить дурацкий разговор!
— Не я его начал.
Блюхер смутился: по-видимому, Балодис захватил интересного человека, и надо умело допросить его. Он вспомнил, как в Москве следователь, придя в Бутырскую тюрьму, начал с того, что предложил ему, Блюхеру, папиросу, а потом стал задавать вопросы: откуда родом, как попал в Петербург, как очутился в Мытищах. Стоит ли повторять?
— Ваша фамилия? — не глядя на пленного, быстро произнес Блюхер.
— Ковалев.
Блюхер вздрогнул, как больной от укола неопытной медицинской сестры. Теплая волна, прокатившись от ног к голове, застряла в горле, вызвав тошноту. Он не ослышался. Руки слегка задрожали, вслед за теплой волной пробежал озноб, и кончики пальцев похолодели.
— Имя-отчество?
— Николай Николаевич.
«Это он, — пронеслось мгновенно в сознании. Скользнул по нему невидящим взглядом. — Зачем судьба меня с ним столкнула?»
— Какой партии?
— Эсер.
У Блюхера подкосились ноги. Сомнений не могло быть. Перед ним стоял тот самый студент, который некогда жил на Расстанной улице и занимался с ним и Настей. С неудержимой быстротой перед глазами пробежали картины прошлого. Листовки и прокламации… Рулоны драпа и велюра… «Эсер! Так вот почему он так хорошо знал историю убийства Гапона! Впрочем, может быть, он ни в чем не виноват. Мобилизовали его, дали винтовку в руки и сказали: «Стреляй!» Разве он знал, что Елькин золотой человек! Двенадцать лет маялся Салка в тюрьме и на каторге. Но ведь и Ковалева арестовали и выслали в Сибирь. Как могло случиться, что два революционера встретились как враги? Не лучше ли расспросить у самого Ковалева».
Сколько мыслей нахлынуло! И ни на одной Блюхер не мог остановиться. На счастье, удачно вмешался Кошкин. Состроив сладкую гримасу, он спросил:
— По своей воле, господин эсер, воевали аль приказали?
— По своей, по своей, — поспешно ответил Ковалев, как будто хотел скорей освободиться от назойливого допроса.
Блюхер обрадовался — Кошкин одним вопросом внес ясность. Теперь он уже знал, о чем спрашивать.
— Белочехи, — сказал он, — подняли мятеж против народа, а эсеры пришли им на помощь. Так ведь, гражданин Ковалев?
Ковалев убедился, что перед его носом не размахивают револьвером, что ему не угрожают казнью, и, подняв указательный палец, охотно ответил:
— Не против народа, а против красных, насильно захвативших власть.
— А, понятно! По-вашему, народ одно, а красные — другое.
— Совершенно правильно! — подтвердил Ковалев.
— Красные, значит, за царя и жандармов, а эсеры за народ?
— Я этого не сказал.
— А как же?
— Эсеры действительно за народ, но у них методы не такие, как у красных. Мы против террора, мы против подавления человека-индивидуума… Впрочем, вы меня не поймете и будете извращать мои же слова.
— Почему же? Мы всё поймем. Азбуку изучали в церковноприходской школе, а революционную теорию в тюрьмах. — В глазах Блюхера зажглись огоньки, голос его стал пружинистым. — Я, к примеру, учился в Питере у одного студента на Расстанной улице. Учил он меня правильно, но когда рабочие стали строить свое государство, то этот студент отрастил себе бороду и пошел войной против ученика. Я думал, что студент настоящий большевик, а на поверку оказалось, что он эсер и расстреливает вкупе с белогвардейцами и белочехами старых рабочих. Вы латынь, наверное, изучали, гражданин Ковалев? Вспомните золотую поговорку: «Ex nihilo nihil!» Вы когда-то спросили у одного парня, которого учили: «Ты кого дерьмом обозвал: меня или царя?» Парень не ответил, а сейчас я вам отвечу: и вы и эсеры — мусор, который надо выбросить на помойку. Вы просто сволочь и разговор с вами окончен…