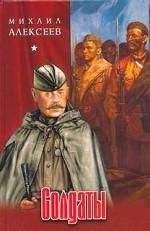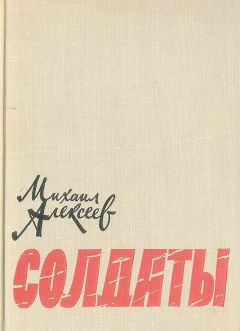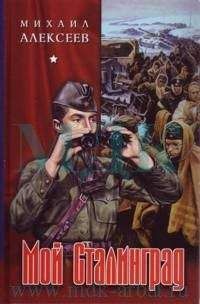Фетисов смущенно топтался на месте, потом деловито стал собирать свое имущество.
– Вы что же, Фетисов? - улыбаясь, спросил Демин. - Про остальное то не рассказали... Просим!
...Старшину еще долго не отпускали со сцены.
Выступивший после Фетисова солдат Громовой говорил о взаимной выручке в горах. При этом он демонстрировал перед участниками слета какие-то веревки, с помощью которых можно легко помочь товарищу при подъеме на крутую гору.
Слушая артиллериста, Демин улыбался, согреваемый крепким и бодрым чувством. Его всегда удивляла и радовала их трогательная, сердечно-грубоватая заботливость о товарище, будто они видели себя в нем, в товарище, и любовались своим благородством и силою своею не в себе, а в товарище. Начальник политотдела всегда восхищался этим солдатским тактом, тщательно скрываемым самими же бойцами подчас за грубыми выражениями, крепко присоленными словами. Во взаимоотношениях бойцов была настойчиво последовательная суровость, предохраняющая их от расслабляющей и поэтому порою вредной на войне нежности друг к другу. Глядя на солдат, Демин чувствовал, что зал этот наполняется чем-то ободряюще смелым, что поможет дивизии выйти целой и невредимой из стиснувших ее горных ущелий на широкий и солнечный простор.
Со слета Марченко и Забаров шли вместе. Марченко был мрачен.
– И чего он глядел на меня так?
– Ты не горячись, - спокойно перебил его Забаров. - А подумай. За последнее время ты здорово изменился. Но что-то есть в тебе еще такое... нет-нет да и выскочит наружу. А Демину хочется видеть тебя прежним сталинградским Марченко, понимаешь? Видел, как внимательно слушал он твое выступление? Я заметил даже, как он поморщился, когда ты произнес фразу: "Война без крови не бывает". Фраза как фраза. Не ты один ее повторяешь. Ничего как будто в ней неправильного нет: в самом деле, на войне льется много крови. И все-таки начподиву не нравится, когда так говорят командиры. И я понимаю его. Ею, этой самой фразой, некоторые горе-командиры частенько пользуются, чтобы оправдать себя, плохо проведенный ими бой, свои большие потери. Угробил людей попусту, да и говорит, что война без крови не бывает... А я так гляжу на это дело: проиграл бой, потерял понапрасну людей - и нечего скрываться за спасительную формулу: "Война требует крови". Надо ценить людей, дорожить каждым человеком как величайшей ценностью. Всю вину принимай на себя, коли по твоей глупости погибли люди. Не знаю, как ты, а я фразу эту... знаешь, просто ненавижу! Она понижает в нас, командирах, чувство ответственности. Определенно понижает! Мешает нам больше и глубже думать о наших операциях... Я понимаю, почему ты повторил ее на слете. И скажу тебе прямо, хоть знаю, что рассердишься. На днях ты послал третью роту в обход, а зря! Если бы ты подумал хорошенько, то тебе бы стало ясно, что посылаешь людей... на верную гибель! Понимаешь ты это? И притом совершенно напрасно. Хорошо, что командир полка вмешался и отменил твое решение, а если бы он...
Марченко вспылил:
– Что вы меня все учите?
– Значит, так надо!
– А тебе известно, что я благодарность от командира полка на сборах получил? Нет. Ну вот, а говоришь... Оставь, Федор, лучше меня в покое. Я сам уже многое перетряс в своем чемодане! - Марченко стукнул себя по лбу. Шел Марченко легко, своей обычной рысьей походкой. Забаров посмотрел на него:
– Хорошо, если так.
– Конечно, так. Вот поглядишь, скоро командовать батальоном буду. А там и... Хотя вряд ли... Знаешь, Федор, со мною чертовщина какая-то происходит: то я поверю в себя, скажу себе мысленно: "Вот возьмусь за дело по-прежнему и даже лучше прежнего еще покажу им всем, что может Марченко!" То вдруг захандрю - и нет этой веры. Руки, понимаешь, опускаются. К черту! Вот так и верчусь на одной точке... - Марченко помолчал, потом резко заговорил: - Слушай, Федор, ну помоги мне, будь товарищем!.. Не могу, понимаешь!.. Черт знает что такое!.. Дня не проживу спокойно. Все... все о ней... Поговори с Наташей. Боюсь за себя, говорю как другу. Наделаю что-нибудь такое, что и не расхлебаешь...
– Погоди, погоди! - испугался Забаров. - Да ты что, сдурел? Ведь она любит другого. Как же...
– Знаю. Но, понимаешь, не могу... и боюсь, что...
Марченко внезапно смолк, круто повернулся и почти побежал прочь. Забаров проводил его тяжелым взглядом. В последнюю минуту Федор увидел его тонкую, стройную фигуру почти у края отвесной скалы. Марченко, как абрек, перепрыгивал с камня на камень, поддерживая на боку ненужную ему саблю. Солнце нехотя погружалось за перевал, окрашивая горы в зеленовато-голубой, нарядный цвет. Но откуда-то снизу по скале ползла вверх черная тень от уродливой тучи.
Забаров зябко поежился и быстрым шагом направился к домику купца, где располагались разведчики. В эту минуту грудь его наполнило острое ощущение сложности жизни; он думал о Марченко, о запутанной судьбе этого в сущности неплохого офицера, а потом невольно мысли его обратились на себя, на свое собственное неустроенное личное. Умевший хорошо командовать разведчиками, он оказался совсем беспомощным в таких, казалось бы, простых делах, как любовь. Что-то не клеилось у него с Зинаидой Петровной. Не клеилось, да и только! Затем стал думать о солдатах. Вспомнил о Никите Пилюгине, который был ранен вскоре после Семена Ванина. Потеря этого солдата почему-то особенной болью отзывалась в сердце лейтенанта. Вместе с Шахаевым Федор приложил немало усилий, чтобы Никита, этот "музейный единоличник", как назвал его однажды Пинчук, стал в ряд их лучших разведчиков. И кажется, дело шло к этому. На их глазах Пилюгин медленно, но неуклонно перерождался. И вдруг теперь, выйдя из госпиталя, он попадет в другую роту? Смогут ли там правильно понять его, не погубят ли в нем то хорошее и здоровое, что успели посеять в его душе они с парторгом и вcя славная боевая семья разведчиков?..
Охваченный этими мыслями, Забаров вошел в дом. Первое, что он спросил, - это нет ли писем. Их не было. Федор глубоко вздохнул и вынул из своей сумки все старые письма Зинаиды. Перечитывая каждое по нескольку раз с терпением и надеждой, как старатель, в груде песка отыскивающий драгоценные золотые блестки, Забаров искал в сдержанных, скуповатых письмах подруги крупинки девичьей ласки, которая была так нужна сейчас его большому и неуютному сердцу. И он находил: их редкое, согревающее и освещающее душу мерцание обнаруживал между тесных строк письма, в тщательно зачеркнутых словах, в многоточиях. Даже в кляксах! Поиски эти доставляли ему огромное наслаждение; напряженных складок на чуть рябоватом крупном лице становилось меньше, темные глаза делались задумчивы и теплы.
– Зина... Зинуша!.. Любимая моя!.. - шептал он и плотно закрывал глаза.
Чувств было так много, что они не умещались даже в его широкой и просторной груди, и он, смущенно улыбнувшись, позвал:
– Шахай!..
Но парторга не было. Он с Акимом и Наташей сидел в зале боярской усадьбы, ожидая начала киносеанса. Говорили о нем, о Забарове, вспоминая его выступление на слете. Наташа больше слушала. Наивные, ослепленные любовью своей, не понимали они с Акимом, что уже через несколько дней забудут о данном друг другу слове и будут встречаться, как встречались всегда. Ощущая теплоту ее руки, Аким тихо рассказывал:
– Я слушал лейтенанта и думал, что есть на свете два типа людей. С внешней стороны они как будто одинаковы. Но у одного только и есть эта внешняя сторона. Сними с него оболочку - под ней пусто. Другой содержит в себе что-то такое, что освещает по-иному и его внешнюю сторону, заставляет уважать человека с первого взгляда. Вот к этому типу людей, мне кажется, принадлежит наш командир роты.
– Ты прав, Аким, - согласился Шахаев. - Вот, знаешь, писатель Бажов нашел очень хорошее и меткое слово для определения богатого внутреннего содержания человека - "живинка". Она, эта живинка, и составляет душу человека, все то ценное в наших людях, что отличает их от других людей. О таких, как Забаров, надо говорить: "Этот человек с живинкой!" Так называет Бажов своих уральских умельцев. Но это вовсе не значит, что одни люди рождаются с живинкой, а другие - без нее. Нет, эта живинка в человеке воспитывается так же, как и все другие ценные качества. - Он задумался. Узковатые глаза его смотрели куда-то далеко. - Огромной заслугой нашей партии, - медленно продолжал он, - между прочим, является как раз то, что она сделала советских людей... по крайней мере большинство из них, людьми с живинкой... ну... с богатым духовным содержанием. Людьми мыслящими, умеющими жить по-новому, строить новую жизнь, что, собственно, и возбуждает такой большой интерес иностранцев к нам...
Аким слушал парторга, как всегда, немножко с удивлением. Удивляли его не только и не столько сами слова Шахаева, ясные, очень простые и глубокие в своей простоте, но и то, что этот уже седой, но, в сущности, еще очень молодой человек обладал такими большими и разносторонними знаниями, много читал и успел о многом подумать.