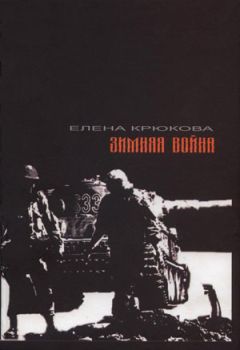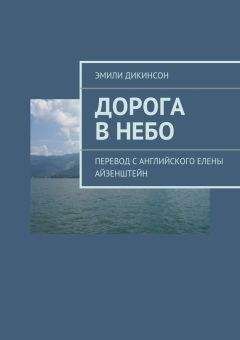— Тише… Уснула…
Русоголовая не спала. Она лежала с открытыми глазами, и они прозрачнели и не моргали, ресницы не дрожали. Лошади так спят — с открытыми глазами. Лапка, перевязанная запачканным в золе пользованным обмахренным бинтом, лежала, как давеча на снегу — откинутая, сиротья.
Собаки сновали по Острову туда, сюда. Собаки ощеривали зубы на людей, наскакивали сзади, хватали за икры, за пятки, упирались в людские спины лапами, валили людей на снег. Хватали за горло. Людское горло беззащитно и мягко; из него, если прокусить его, хлещет прямо в пасть теплая красная кровь. Человек — это тоже охота. Добыча. Человек — хозяин, и человек — дичь. Хозяин и дичь различаются. В чем отличье — трудно объяснить. Но оно есть, и оно очень простое.
Девушка с перевязанной рукой выходила из барака, бывшего ранее святой церковью, глядела на резко блестевший под солнечными лучами снег. Собака, наученная загрызать человека, не мигая, глядела ей в глаза. Девушка садилась на корточки, протягивала собаке руку. На девичьей ладони лежал кусок мятого, волглого, с опилками, ржаного хлеба.
— Ешь! — Голос девушки проникал собаке в душу. — Ешь ты, ешь!.. Ты такая злая, потому что и тебя вдоволь не покормят… голодом изморят, на людей бросаешься… У нас во дворце тоже были собаки… И у Таты была собачка любимая… Джемми ее звали… Таточка ее даже на животе, под фартучком, таскала… Ой, не надо… не надо мне вспоминать, собака… голова кружится… иди, возьми!.. я уже поела… на…
Собака осторожно подходила, веря и не веря. Утыкала нос в девичью ладошку. Рыча, хватала хлеб зубами. Отвернувшись, уходила. Завернутый на мохнатую спину крючковатый хвост дрожал на морозе от удивленья: человек-дичь, который боялся ее и бежал от нее, не боится ее, кормит ее. Зачем человек вытирает глаза и щеки ладонью, пахнущей черным хлебом?
Гулкие, подземные удары барабана. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
В каком из снов своих проснешься ты. Вид у тебя будет Адский, и наведешь ты ужас. Не будет у тебя ни бороды, ни усов, только несколько жалких волос на губах и подбородке. И глаза твои глянут, узкие, быстро и жадно вокруг. И голос, тонкий и острый, пронзит гаревой, дымный воздух, налетающий из степи. Ты будешь сложен прочно, как крепкий Дацан; ты будешь долговечен. Ты выстоишь в страшном бою.
Войско шло, текло тремя огромными черными лентами по слепяще-белой заснеженной степи. Копья вздымались. Над конскими головами торчали вызывающе островерхие монгольские шапки. Войско слыло непобедимым; внушало ужас зверям, птицам и людям. Там, где проходили Чингисхановы тумены, оставались лишь развалины, коптящие, вздымающие дым, как баба — седые патлы, и обугленные трупы. Монголы умели воевать зимой, они не боялись мороза. Степной ветер выдул у них из сердец всю боль и жалость.
Текла черная река, разделяясь на три смертоносных русла. За спиной розовели на рассветном Солнце яркие, острые, как воздетые ножи или навершия копий, голые горы. Впереди расстилалась великая степь. Женщины были одеты так же, как мужчины. Они принимали участие в битве. Нынче будет большой бой. Вон, вон оно, раскинулось, степное синее, под крепким, как панцирь, льдом, широкое озеро. Синий сапфир, упавший с небес. Во имя владыки нашего, Чингисхана, Темучина. Все в мире ему принадлежит.
Кони шли медленно, понурив гривастые головы. Приземистые кобылы тянули повозки, и грохотали пустынно и тоскливо колеса, везя скарб, старух и детей, рожденных в пути, все на Север, на Север. Верблюды тащили разобранные юрты. Конница катилась огромным языком черной горячей лавы, в руках у воинов дымились факелы, за плечами торчали из колчанов отравленные степные стрелы. Поверх вьюков, наваленных на коней, были приторочены медные котлы. Воинам перед сраженьем надо было хорошенечко набить едой брюхо. Бешбармак, лепешки с мясом, пилав с жареным луком. Бабы должны потрудиться усердно. Многие не вернутся из боя. Будут на небесах, у самого Тенгри, кушать манты и каймак из жирных сливок.
Его теперь звали Кюль-Тегин. Конь под ним играл, то и дело вставал на дыбы. Лошади чуяли близкую кровь. Тумен, разделенный на три рукава, подтекал все ближе к Белому Полю сраженья. Воины сидели на конях, как влитые, напоминая каменных степных идолищ. Ни одного женского взрыда или плача — из телег, из укрытых холстиной повозок. Близко сраженье. Люди во все века сражались. Находили смерть в полях. Под пристальным, жестоким глазом белого степного Солнца. Если он, Кюль-Тегин, победит, кровь победы смоет весь ужас презренной, подчиненной и подобострастной жизни. Величайшее зло на земле — подчиненье одного человека другому. Униженье. Гордость не терпит униженья. Обидчик должен быть убит. Брат обиделся на брата и убил его. Воин не перенес униженья от другого воина и застрелил его из лука на поединке. А если один народ обидит другой народ?.. Бастылы полыни торчали из-под снега, мотались на ветру, крученные поземкой.
— Хэ-то-э!.. Хурра!.. Хурра!.. Вперед!.. За славу Чингис-хана, Правителя Полумира!.. Возьми нашу жалкую кровь, Великий!..
Оттуда, из Степи, надвигались густые черные ряды врага. Конница у них могуча, помощней нашей будет. Да ведь мы их разобьем. Кони у них повыше ростом, не наши низкорослые степные кобылки. Костяк движется плечо к плечу, разведчики вольно рассыпались по степи. Снег, снег заметает их. Пока еще живых. О, что такое смерть, Кюль-Тегин. Не бойся. Сейчас ты узнаешь ее в лицо.
— Хэй-о-эй!
Свиристели рожки, бухали громко боевые барабаны, там и сям стали раздаваться воинственные кличи. Воины подбодряли себя, разогревали застоявшуюся кровь, всаживали коням в бока колючие шпоры, хлестали по крупам длиннохвостыми плетками. Два войсковых шамана в высоких собольих шапках ехали на вороных лошадках рядом с ним, косились на него. Кюль-Тегин, герой!.. Один шаман, с обвислыми седыми усами, вытащил из-под полы кожаного боевого одеянья бубен, ударил в него, заорал: Чубугань, Чубугань!.. три барса на небе, три полководца на земле!.. Чингис-хан, Джэбэ и великий Кюль-Тегин!.. Нам с ними счастье!.. Пусть голову отрежут китайским серпом, пусть русы проткнут ребра копьями и вилами, — три барса на загривках несут наше серебряное небесное счастье, и глаза зверей сверкают сапфирами, и в их честь потомки выстроят огромный нефритовый Дацан в поднебесных горах Шань-Лу!..
Три черных реки на яркой белизне приближались к одной широкой черной реке, и сверху, с гольцов, было видать, как черные рукава вливаются в широкое черное русло. Гул. Растет подземный гул; падает отвесно с небес гул небесный. Крики поднялись к небу, тонули в морозной синеве. Люди схлестнулись с людьми, и повозки опрокидывались набок, и медные шлемы валились с голов у нерасторопных воинов, сбиваемые вражьими мечами. Русы, вы сражаетесь достойно. Мы не будем вас брать в плен. Ни одного. Мы убьем вас всех, до единого. Мы спляшем пляску победы, разложим пир счастья на ваших костях, мы раздавим вас досками, а сами сядем на доски, сверху, все войско мое я усажу, весь тумен, и мы станем наливать в чаши вино и вашу белую веселую воду, и опрокидывать в глотки, и вопить радостно: о, сколько мы врагов положили в Белом Поле, не счесть. И еще положим.
Голубой стяг мелькнул в морозном воздухе, затрещал, забился на ветру. Княжий?! Золотом расшит… Кюль-Тегин рванул повод коня. Воины бились длинными, как бабья, по щеке, слеза, изогнутыми клинками. Лучше степных мечей во всем свете нет. Один удар — и ты перерублен надвое.
И вот тут-то женский крик поднялся из повозок! Женщины вопили, как бешеные, как с цепи сорвались — и монголки, вышедшие из самого Керуленского Улуса, отправившиеся в поход вслед за своими храбрыми мужьями, и захваченные по пути на Запад в плен чужеземки, и девки с волосьями, упадавшими на плечи сырой нечесаной пенькой, и старые старухи, годные лишь на то, чтобы стряпать и мыть грязную посуду после трапез, — и следом за ними заблажили и дети, мальцы и огольцы, высунувшись из крытых холстиной и свежеободранными коровьими и конскими шкурами кибиток, так завопили, так завыли — не хуже волков степных! Женщины и дети поняли, что началась битва, что бой начался. Бой — гибель; бой — кровь. Дети видели кровь впервые. Женщины умели останавливать кровь, перевязывать раны. Но женщины, в отличие от детей, знали: если вся кровь вытечет из продырявленного стрелой или копьем мужа, ему не помогут ни Алтас, ни Хубсугул, ни сам грозный великий Тенгри.
— А-а-а-о-о-о!.. — вопили женщины. — Пощадите!.. Помилуйте!..
А звать на помощь, взывать к неведомому помилованью было уже слишком поздно, бой начался, мечи, схлестнувшись, высекли друг из друга голубые искры, и пролилась первая кровь — короткий, будто обрубленный, как хвост охотничьей собаки, уйгурский меч вознесся над беззащитным лицом юноши-руса, рубанул, и вместо одной костяной чаши черепа стало две, и вместо живого лица — кровавый каймак, и то, что осталось на шее, содрогаясь в уже посмертных судорогах, меньше всего напоминало человека: это был уже житель Преисподней, безголовое чудовище Дучжи, у коего зубы находились на животе, а четыре ноги когтили тьму, и из тьмы, из-под когтей, сочилась черная кровь. Жертва! Тебе, Тенгри-хан! Тебе, непобедимый Темучин!