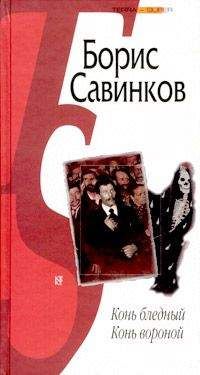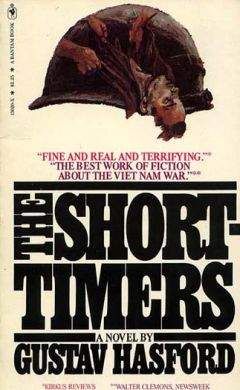И вдруг сержант Герхайм стихает. И выражением глаз, и всем своим обликом он становится похож на странника, который вернулся домой. Он — хозяин, и ему в полной мере подвластны и он сам, и мир, в котором он живет. Лицо его обретает какую-то леденящую кровь красоту, по мере того как темная сторона его натуры выползает наружу. Он улыбается. В этой улыбке нет ни капли дружелюбия, эта улыбка исполнена зла, как будто это не сержант Герхайм, а оборотень, человек-волк, обнаживший клыки.
— Рядовой Пайл, я горжусь…
Бум.
Стальная накладка приклада толкает Леонарда в плечо.
Пуля калибра 7,62 мм, остроконечная, в медной оболочке разрывает сержанту Герхайму спину.
Он падает.
Мы все замираем, уставившись на сержанта Герхайма.
Сержант Герхайм приподнимается и садится, как будто ничего не произошло. На какую-то секунду мы вздыхаем с облегчением. Леонард промахнулся! А затем темная кровь толчком выплескивается из крохотной дырочки на груди сержанта Герхайма. Красное кровяное пятно распускается на белоснежном белье как цветок неземной красоты. Выпученные глаза сержанта Герхайма заворожено глядят на эту кровавую розу на груди. Он поднимает взгляд на Леонарда. Прищуривается. И оседает, с улыбкой оборотня, застывшей на губах.
Я должен что-то сделать — как ни ничтожна должность дневального, но все же я при исполнении.
— Слушай, как там, Леонард, мы все — твои братаны, братья твои, друган. Я ведь твой сосед по шконке. Я…
— Конечно, — говорит Ковбой. — Тихо, Леонард, не гоношись. Мы же тебе зла не желаем.
— Так точно, — говорит рядовой Барнард.
Леонард никого не слышит.
— Вы видели, как он на нее смотрел? Видели? Я знаю, чего он хотел. Знаю… Этот жирный боров и его вонючий…
— Леонард…
— А мы можем вас всех убить. И вы это знаете. — Леонард ласково поглаживает винтовку. — Вы же знаете, что мы с Шарлин можем вас всех убить?
Леонард наводит винтовку мне в лицо.
На винтовку я не смотрю. Я гляжу Леонарду прямо в глаза.
Я знаю, что Леонард слишком слаб, чтобы в полной мере владеть своим смертоносным орудием. Винтовка — лишь инструмент, а убивает закаленное сердце. А Леонард — это прибор с дефектом, который не способен управлять той силой, которую должен собрать и выбросить из себя. Сержант Герхайм ошибался — он не смог разглядеть, что Леонард как стеклянная винтовка, которая разлетится вдребезги после первого же выстрела. Леонард слишком слаб, чтобы собрать всю мощь взрыва внутри себя и выстрелить холодной черной пулей своей воли.
Леонард улыбается нам всем, и это — прощальная улыбка на лице смерти, жуткий оскал черепа.
Выражение этой улыбки меняется — удивление, смятение, ужас, тем временем винтовка Леонарда покачивается вверх-вниз, а потом Леонард вставляет черный стальной ствол в рот.
— Нет! Не…
Бум.
Леонард замертво падает на палубу. Его голова превратилась в жуткую мешанину из крови, лицевых костей, черепных жидкостей, выбитых зубов и рваных тканей. Кожа — какая-то ненастоящая, как пластмасса.
Гражданские — понятное дело — как водится, потребуют расследования. Но в ходе этого расследования рекруты взвода 30–92 покажут, что рядовой Пратт, несмотря на высокую мотивацию к службе, входил в число тех десяти процентов с некомплектом, из-за которого им нельзя служить в возлюбленном нами Корпусе.
Сержант Герхайм по-прежнему улыбается. Он был хорошим инструктором. «Погибать — вот для чего мы здесь, — любил он повторять. — От крови трава растет лучше». Если б сержант Герхайм мог сейчас говорить, он бы объяснил Леонарду, почему мы влюбляемся в оружие, а оно не отвечает нам взаимностью. И еще он добавил бы: «Благодарю за службу».
Я выключаю верхний свет.
Объявляю: «Приготовиться к отбою».
— Отбой!
Взвод падает на сотню шконок.
Внутри меня — холод и одиночество. Но я не одинок. По всему Пэррис-Айленду нас тысячи и тысячи. А по всему свету — сотни тысяч.
Пытаюсь заснуть…
Лежа на шконке, притягиваю к себе винтовку. Она начинает со мной разговаривать. Слова вытекают из дерева и металла и вливаются в руки. Она рассказывает мне, что и как я должен делать.
Моя винтовка — надежное орудие смерти. Моя винтовка — из черной стали. Это наши, человеческие тела — мешки, наполненные кровью, их так легко проткнуть и слить эту кровь, но наши надежные орудия смерти так просто из строя не выведешь.
Я прижимаю винтовку к груди, с великой нежностью, будто это священная реликвия, волшебный жезл, отделанный серебром и железом, с прикладом из тикового дерева, с золотыми пулями, хрустальным затвором и бриллиантами на прицеле. Мое оружие мне послушно. Я просто подержу в руках Ванессу, винтовочку мою. Я обниму ее. Я просто чуть-чуть ее подержу… И, докуда смогу, буду прятаться ото всех в этом страшном сне.
Кровь выплескивается из ствола винтовки и заливает мне руки. Кровь течет. Кровь расплывается живыми кусочками. Каждый кусочек — паук. Миллионы и миллионы крохотных красных паучков ползут по рукам, по лицу, заползают в рот…
* * *
Тишина. И в этой темноте сто человек, как один, начинают читать молитву.
Я гляжу на Ковбоя, затем — на рядового Барнарда. Они все понимают. Холодные оскалы смерти застыли на их лицах. Они мне кивают.
Новоиспеченные солдаты морской пехоты из моего взвода лежат по стойке «смирно», вытянувшись горизонтально на шконках, винтовки прижаты к груди.
Солдаты морской пехоты застыли в ожидании, сотня оборотней-волчат с оружием в руках.
Я начинаю:
Это моя винтовка.
Много таких, как она, но именно эта — моя…
Я видел лучшие умы моего поколенья — безумьем убиты, истощены истеричны и голы…
Аллен Гинсберг, «Вой»
Псих — это человек, который только что осознал, что творится вокруг.
Уильям С. Берроус
Тэт[36]: год Обезьяны.
Последний день перед встречей нового, 1968 года по вьетнамскому лунному календарю мы со Стропилой проводим у лавки на Фридом-Хилл возле Дананга. Мне приказано написать тематическую статью о центре отдыха на Фридом-Хилл на высоте 327 для журнала «Лэзернек». Я — военный корреспондент при 1-й дивизии морской пехоты. Моя работа заключается в том, чтобы писать бодрые новостные бюллетени, которые раздаются высокооплачиваемым гражданским корреспондентам, которые ютятся со своими служанками евроазиатского происхождения в больших отелях Дананга. Те десять корреспондентов, что работают в информбюро 1-й дивизии, с неохотой выполняют свои обязанности по созданию пиара войне вообще и корпусу морской пехоты в частности. Сегодня утром мой начальник решил, что статью, которая может реально вдохновить войска на великие свершения, можно написать о высоте 327, а фишка должна быть в том, что высота 327 была первой точкой, где надолго обосновались американские войска. Майор Линч считает, что я заслужил немного халявы перед возвращением в фубайское[37] информбюро. Последние три операции вымотали меня до усрачки; в поле корреспондент — такой же стрелок, как и все. Стропила прицепился ко мне и таскается за мной как ребенок. Стропила — военный фотокорреспондент. Он думает, что я реально крутой боевой морпех.
Мы направляемся в кинотеатр, который больше похож на склад, и любуемся там на Джона Уэйна в «Зеленых беретах»[38], этой голливудской мыльной опере о любви к оружию. Сидим в самых первых рядах, рядом с группой хряков. Хряки развалились поперек кресел, задрав грязные тропические ботинки на кресла перед ними. Они все бородатые, немытые, одеты не по форме. Все поджарые и злобные — так обычно выглядят люди, вернувшиеся живыми после долгих топаний через джунгли, «буниз», зеленую мандятину.
Я укладываю ноги на ряд кресел перед собой, и мы смотрим, как Джон Уэйн ведет за собой зеленоберетчиков. Джон Уэйн просто прекрасен в облике солдата, он чисто выбрит, одет в щегольскую тропическую форму в тропическом камуфляже, сшитую точно по фигуре.
Ботинки на его ногах блестят как черное стекло. Вдохновленные Джоном Уэйном, чудо-воины с небес[39] вступают в рукопашную со всеми Викторами Чарли[40] в Юго-восточной Азии. Он рявкает, отдавая приказ актеру-азиату, который играл Мистера Сулу в «Звездном пути»[41]. Мистер Сулу, который здесь играет арвинского[42] офицера, зачитывает свою реплику, исполненный величайшей убежденности в сказанном: «Сначала убейте … всех вонючих конговцев … а потом поедете домой». Морпехи-зрители взрываются ревом и хохотом. Это дико смешное кино, такого мы давно уже не видели.
Позднее, в самом конце фильма, Джон Уэйн уходит в закат с отважным мальчонкой-сиротой. Хряки смеются, свистят и предупреждают, что сейчас уписаются. Солнце садится в Южно-Китайское море, и это делает конец фильма столь же похожим на правду, как и все остальное.