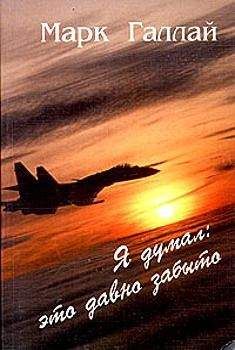Правда, история спорта знает исключения н из этого правила. Когда в своё время наш легкоатлет Юрий Степанов превзошёл американского прыгуна Чарльза Дюмаса, некоторые зарубежные обозреватели выразили сомнение в достоверности столь сенсационного события. Была даже высказана гипотеза, согласно которой секрет успеха Степанова заключался в его… туфлях: будто бы у них была какая-то хитрая, особо упругая подошва, подбрасывающая прыгуна вверх, как с трамплина. Забавны обстоятельства, при которых эта, скажем прямо, не очень спортивная гипотеза была наглядно опровергнута: на очередном соревновании — на сей раз в очном поединке — Степанов снова выиграл у Дюмаса, после чего тут же, на стадионе, подарил ему свои магические туфли. Однако, как и следовало ожидать, прыгать в них выше Дюмас не стал. Дело оказалось не в туфлях.
Но этот эпизод — не более как курьёзное исключение. Обычно же в подобных видах спорта личное «авторство» спортсмена признается безоговорочно.
Несколько сложнее обстоит дело у конников. Мнения о том, кто здесь «главнее» — всадник или лошадь, — часто расходятся. В своё время один из моих начальников спросил, как я отношусь к конному спорту. А я, в сущности, никак к нему не относился: дело было в первые годы моей работы в авиации, и ни для каких других средств передвижения места в моем сердце не оставалось. Поэтому я без лишних раздумий брякнул в ответ первое, что пришло в голову:
— Конный спорт? А разве это спорт для всадника? Я думал — только для лошади.
Впоследствии я понял, что высказывать эту мысль даже в шутку не следовало: начальник увлекался верховой ездой всерьёз. Но не о том сейчас речь.
К сожалению, то, что говорится о всаднике и лошади в шутку, приобретает нередко вполне серьёзный характер, как только разговор касается рекорда, установленного в небе:
— А что там, собственно, сделал лётчик? Взлетел, дал полный газ, самолёт и разогнался, насколько ему положено. Сидел бы за штурвалом другой лётчик, все равно результат получился бы одинаковый… Какой же это спорт?
И все-таки — утверждаю это с чистой совестью — авиационный рекорд — это почти всегда достижение не только техническое, но и спортивное в полном смысле слова.
Кстати, замечу, что моё мнение в данном случае абсолютно беспристрастно: сам я рекордсменом — ни мировым, ни всесоюзным, ни хотя бы областным или районным — никогда не был. Так сказать, лавров не удостоился.
Впрочем, в подобном же положении оказались, пожалуй, почти все лётчики нашего поколения, сформировавшиеся к началу войны, а к шестидесятым годам начавшие постепенно уступать места в кабинах самолётов своим более молодым коллегам.
Конечно, за это время — период бурного количественного и качественного роста нашей авиации — фактически было установлено немало достижений, в том числе и превышающих мировые. Но по ряду причин — иногда с очевидностью вытекающих из государственных интересов, а иногда и не очень понятных — рекорды эти оставались, как правило, необнародованными. И уж во всяком случае — незарегистрированными официально, в соответствии с правилами Международной авиационной федерации — ФАИ.
Такая участь постигла фактически рекордное значение числа Маха, достигнутое в своё время мною на первом отечественном реактивном истребителе МиГ-9; так же мало кому известными остались и многие другие значительные результаты, полученные не одним десятком советских лётчиков-испытателей на отечественных летательных аппаратах.
Думаю, что история нашей авиации ещё вернётся к изучению этих полузабытых, многократно с тех пор перекрытых рекордов — ступенек, без каждой из которых не было бы и всей лестницы, ведущей к современному уровню авиационной техники.
В этих «ступеньках» — все дело. Генеральный конструктор М.П. Симонов точно сказал о них: «Идёт соревнование идей, уровня технологии, аэродинамики. Как проверить в мирное время — достаточен ли этот уровень? Поэтому и устанавливаются рекорды на предельных режимах».
Но я несколько отвлёкся в сторону.
А как же обстоит все-таки дело с чисто спортивной стороной авиационного рекорда? Спорт это в конце концов или не спорт?
Давайте попробуем разобраться на каком-нибудь примере.
* * *
Наибольшая высота, какую способен набрать современный скоростной самолёт, самостоятельно (это тоже существенная подробность) стартовав с земли, составляет около тридцати пяти километров.
Это, правда, в десять с лишним раз меньше высоты полёта космических летательных аппаратов, но в четыре раза выше высочайшей горы земного шара — Джомолунгмы (Эвереста) и в сто семьдесят раз выше здания Московского университета. Так что с чем ни сравнивай — высота солидная!
Но не следует думать, что самолёт способен на такой высоте спокойно лететь по прямой, как в каком-нибудь рейсовом полёте. К сожалению, это он может лишь на добрый десяток километров ниже.
А на рекордную высоту «динамического» потолка (называемого так в отличие от обычного, статического) машина выскакивает крутой горкой — как камень, закинутый вверх пращой. Выскакивает, а потом через считанные секунды, как только иссякнет инерция движения вверх, неудержимо — опять-таки как брошенный камень — падает назад, вниз, в более плотные слои атмосферы, где есть на что опереться крыльям.
Казалось бы, все очень просто. Так сказать, чистая механика.
И действительно, без точных инженерных расчётов максимального динамического потолка не достигнешь. Расчёты, предварительные эксперименты, анализ выполненных заблаговременно прикидок — все это даёт очень многое. Очень многое — но не все! Что-то (и весьма солидное «что-то»!) остаётся на долю лётчика, его таланта, интуиции, его шестого, седьмого — не знаю уж, какого по счёту, — чувства.
Вот лётчик набрал заданную высоту, на которой должен разогнаться для броска вверх. Эта исходная высота определена заранее — пока все идёт «от расчёта». Машина выведена на горизонталь, включён форсаж двигателя, спинка сиденья ощутимо давит пилоту на лопатки — так энергично растёт скорость!.. Показания приборов? В норме!.. Разгон продолжается. Вот уже удвоенная скорость звука осталась позади.
Пора!
Ручка на себя — и страшная тяжесть наваливается на каждую клеточку тела пилота. Она — эта клеточка, — подчиняясь извечному закону инерции, жаждет лететь по-прежнему равномерно и прямолинейно вперёд, а крылья вздыбившегося самолёта тащат его (и все, в нем находящееся, — живое и неживое) вверх.
Но фокус не в том, чтобы просто пассивно перенести перегрузку. Надо мелкими движениями ручки управления так точно дозировать её, чтобы несущаяся с огромной скоростью машина перешла от горизонтального полёта к крутому, почти вертикальному подъёму наилучшим, как говорят, оптимальным образом. Чуть плавнее или, наоборот, чуть энергичнее, чем надо, — и какая-то часть живой силы разгона потеряется непроизводительно. А такая потеря — сотни и тысячи недобранных метров динамического потолка.
Но вот описана в небе размашистая дуга, и самолёт мчится, как бы стоя на хвосте, носом вверх. Резко спадает перегрузка. Перед лётчиком — чёрное небо стратосферы. Землю — вернее, мглистую серую дымку, за которой скрывается Земля, — он видит только краем глаза, боковым зрением. Однако хорошо видна Земля или плохо, ни малейшего крена допустить нельзя. Это тоже обернётся недобранной высотой.
Да и вообще, хоть перегрузка и отпустила тело лётчика, отдыхать рано. Через несколько секунд прямолинейного полёта свечой вверх уже пора снова понемногу опускать нос — уменьшать крутизну набора, чтобы не так быстро (а как именно — пусть подскажет интуиция) падала скорость. Только что лётчик весил в несколько раз больше своего обычного веса; теперь — на обратном перегибе траектории полёта — он весит все меньше и меньше. Больше минуты длится полная невесомость. Да, да! Та самая «космическая» невесомость! Оказывается, её можно ощутить не только в космосе, но и в атмосфере. Впрочем, пространство, в котором несётся, вот уже добирая последние километры высоты, самолёт, — действительно больше похоже на космос, чем на привычную околоземную атмосферу: недаром почти девяносто девять процентов всей массы окружающего нашу планету воздуха осталось внизу. Чёрное небо кажется каким-то странно разросшимся: оно не только над головой, но и впереди, сзади, чуть ли не со всех сторон…
Но лётчику не до наблюдений за небом. Сейчас надо, чутко регулируя угол набора, выбрать скорость до конца — довести её до того минимума, за которым самолёт потеряет управляемость и, не дойдя до потолка, сорвётся в неуправляемое падение.
Но вот, кажется, все! Замерев на секунду в самой верхушке траектории — действительно, как брошенный вверх камень, — машина неудержимо устремляется вниз. Задержаться здесь она не может, как не может прыгун замереть над планкой.
Вниз, вниз, вниз! Теперь другие заботы, начиная хотя бы с того, что горючего осталось на самом дне топливных баков. Надо построить снижение так, чтобы прямо попасть на аэродром. Времена, когда самолёты могли в случае необходимости приземлиться вне аэродрома, увы, давно прошли: не те посадочные скорости, не те дистанции пробега — в общем, не те машины! Впрочем, «те» машины не могли подниматься в такую высь. Ничто на свете не даётся бесплатно.