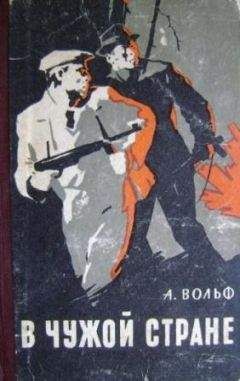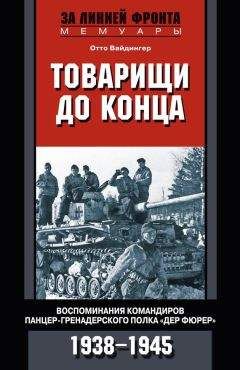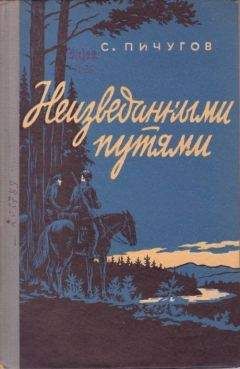— Наша земля красивая, это верно, — сказал Боборыкин, ломая сухие ветки и кидая их в костер. — А главное — просторно.
— Что земли много, это действительно, — отозвался кто-то из партизан, сидевших поодаль. — Только тутошняя земля богаче родит. И опять же она обжитее. Вон у них дороги какие! Кругом асфальт. Деревня в пятьдесят дворов, а улица какая… И дома каменные, электричество. У нас только в райцентре электричество пустили, перед самой войной, а у них по всем деревням.
— Спорить тут, конешно дело, не будешь, — послышался глухой хрипловатый голос, — земля у них обжитее. Сады хорошие, виноградники. Ну и дороги, конешно дело, электричество… Водопровод в каждой деревне имеется. Культурно… — Голос умолк, но через минуту послышался снова: — Им, бельгийцам-то, конешно дело, легче. Всей земли у них, может, не боле, чем в нашем районе, а людей живет густо. Деревня на деревне стоит и в город задом упирается. Тут тебе не то что дороги, а всю территорию можно под асфальт…
Маринов всматривается в темноту, стараясь различить лицо говорившего. Но тот сидит под деревом, его совсем ке видно: «Сейчас начнется разговор, — думает Маринов. — Ну-ну, пускай говорят, полезно!»
В беседу вступает Тихон Зенков. Это человек молодой, но рассудительный и хозяйственный. Официально он считается помощником начальника штаба по связи, а фактически командует всей хозяйственной частью. Зенков ко всему внимательно приглядывается, скоропалительных выводов делать не любит.
— Ты, друг, говоришь о водопроводе, об электричестве. Электричество, между прочим, в нашей деревне есть. Водопровода нету. Что правда, то правда. Сколько я воевал, чтобы к фермам воду подвести, так и не пробил. Буду жив, возвернусь домой, так уж добьюсь своего… Да, водопровода у нас нету. И в смысле электричества в деревнях тоже плохо. Где есть, а где как при царе Горохе… Ну, и постройки у них получше, каменные. А все-таки, если разобраться, наши крестьяне справнее здешних живут. О богатых я не говорю, а средний крестьянин на своей земле прокормиться не может. Факт! Тут почти каждый хозяин либо сын его в шахте работает. Без шахты они пропали бы!
— Пропали бы… — слышится голос партизана, начавшего спор. — Погляди, как они ходят. В шляпах да при галстуках!
— Эко диво, шляпа! — рассмеялся Станкевич. — Кроме шляпы, братка, ты, видать, ни хрена не разглядел… Шляпа! Он в шляпе ходит, а на коняге пашет.
— Пошто не разглядел, разглядел, — снова послышалось из темноты. — Я суды-то, в Бельгию, из Франции пробился. Половину Франции прошел. И в Голландию с Кучеренкой ходил. Нет, здесь живут чище нашего. Это ты мне, приятель, не доказывай! Бауэр по деревне идет так, что тебе барин, городской…
— В шляпе и при жилетке, верно, — кивает головой Зенков. — Только ты жизнь шляпой не меряй. Этой шляпе цена — три раза плюнуть. Ты, друг-товарищ, в корень гляди. Ты кто — колхозник? Так, колхозник… Не знаю, какой у вас колхоз, богатый или бедный, а ты все равно на земле хозяином жил, твердо на ногах стоял. Верно я говорю?
— Так и тут хозяева. В каждом доме хозяин. А как же! Дом свой, скотина, земля. Хозяева!
— Эх ты, братка-братка… — с иронией протянул Станкевич. — Глаза видят, а мозга не берет! Какие они хозяева? В межах запутались. Всю землю проволокой опутали… Дальше своей межи у этого хозяина жизни нету. Вся жизнь в куске земли. А кусок-то — с пятак…
Снова сверкнула молния, громыхнул гром — теперь уже сильнее, с тяжелым раскатом. Пахнуло свежестью, солоноватым запахом далекого моря. По листьям деревьев застучали крупные дождевые капли. Но, увлеченные горячей беседой, партизаны не замечали дождя.
— Люди здесь хорошие, — раздумчиво заговорил Боборыкин. — Работать любят и умеют. И душою добрый народ. А жизнь у них нелегкая, это правильно. Трудно тут человеку жить. Товарищества нашего у них нет.
— Я об этом и толкую, — горячо сказал Зенков. — У них к жизни нашего интересу нет. Он только о своем хозяйстве думает, а я о колхозе… А если хочешь, так я за всю страну думаю! Потому как жизнь у меня с нею одна…
— Хорошо сказал, Тихон! — проговорил Маринов. — Судьба Советского Союза — это судьба всего народа и каждого из нас. Власть наша и страна наша, родная до боли сердечной. — Маринов достал сигареты, закурил. Все молчали, ждали, когда снова заговорит комиссар. Он повернул голову к партизану, сидевшему в темноте, под деревом. — Вот ты говорил о бауэрах, дескать, хорошо, легко живут, в шляпах и при галстуках ходят. Ты в Марлоо бывал?
— Я тут везде бывал.
— Джека Сурса знаешь?
— Знаем. Богатый мужик!
— Правильно, живет лучше многих. А ты спроси Сурса: уверен он в своем завтрашнем дне или не уверен? Я, например, ему такой вопрос задавал. И знаешь, что он мне ответил? Все от бога, говорит. Если случится беда — хлеб погибнет или скот падет, — что ему делать? Нищим человек станет. Можно, конечно, в шахту пойти работать. А если он уже стар? И на шахтах работа не каждому есть. Знаешь, какая тут была до войны безработица? Нет, друг, надо в жизни серьезней разбираться. По шляпе о ней не судят!
— Правильно вы сказали, товарищ комиссар, — послышался задумчивый, негромкий голос. — Жизнь наша… как бы это сказать… в общем крепче у нас жизнь, надежнее. Всякое, конечно, и у нас случиться может. В нашей местности один год такая засуха была, что, как говорится, не приведи господь. Туго пришлось, а ведь не пропали, никто по миру не пошел. Колхоз, советская власть! Да не будь этой проклятой войны… Я, понимаешь, собрался учиться на комбайнера, заявление подал, а тут — война…
— Я тоже учиться собирался, — вздохнул Зенков. Бригадиром на ферме работал, а грамотежка-то маловатая. Теперь с учебой погодить придется. Работы дома невпроворот… До того, ребята, работать охота, прямо терпежу нет! — Он извлек из костра уголек, прикурил. — Ничего. Теперь уж недолго. Так развернемся, что весь мир честной ахнет…
Дядькин, сидевший неподвижно и молча, внимательно слушал партизан. Тревожное чувство, которое не оставляло его сегодня весь вечер, улеглось. Он думал с волнением: «Вот какие они, наши люди. Судьбою страны живут. За всю страну, за будущее ее в ответе. Да, без советской власти, без Советской Родины жизни для них нету… Кто их заставил идти в партизаны, взяться за оружие? Ни командиров над ними, ни начальников не было. Попрятались бы по лесам или к бельгийцам пристроились, работать стали, кто бы их тронул? Бельгийцы не выдадут… А нет — не могли мы так поступить, не могли!..»
Дождь затих, но в черном небе все чаще сверкали далекие молнии. Дядькин придвинулся к костру, взглянул на часы. Десять минут двенадцатого. Отправляться через полчаса… Он повернулся к Маринову, положил руку ему на плечо:
— Споем, комиссар?
— Нашу, партизанскую?
— Нашу!
Маринов запел несильным, но густым, приятным голосом:
Партизаны подхватили песню, она сразу разлилась широко, мощно.
Чтобы с бою взять Приморье,
Чей-то юношески звонкий, чистый голос поднимается над другими, он будто зовет их ввысь, на простор: так смелый, сильный голубь тянет за собою вверх, к облакам, всю летучую стаю. Песня поднимается все выше, звучит громче:
И останутся, как в сказке.
Дядькин вполголоса подпевает, а сам смотрит в темное небо, думает: «Далеко же занесло тебя, партизанская песня, далеко… С Тихого океана в Бельгию… Да, как в сказке!»
Песня затихла. Партизаны сидят молча. В темноте вспыхивают огоньки папирос. Песня навеяла воспоминания, думы о доме.
— Хорошая песня, братка, как лесной родник, — задумчиво проговорил Станкевич. — Будто ключевой воды испил…
Дядькин встал, поправил пистолет за поясом.
— Пора, товарищи!
Партизаны бесшумно поднялись, следом за Дядькиным вышли на тропу.
Оглушающе, словно залпом ударила тяжелая батарея, раскатился гром. Все небо засветилось, заблистало вспышками. Дядькин на секунду остановился, бросил взгляд на небо и повернулся к шагавшему рядом Маринову:
— Соколов уже должен начинать. Да, им время начинать!..
* * *
Группа Соколова вышла из леса, когда на западе еще горели отсветы затухающего заката. На горизонте, подернутом багрянцем, четкими силуэтами вырисовывались фабричные трубы Хасселта. Перед городом узкой ровной линией светлел канал Альберта.
Партизаны огляделись, пошли цепочкой через поле молодой, темно-зеленой ржи. Внезапно надвинувшиеся с севера тучи погасили отблески заката, и все сразу погрузилось в темноту: уже не видно ни леса, ни канала, ни межи, по которой они идут.