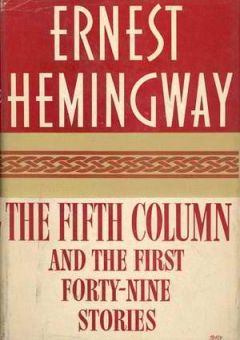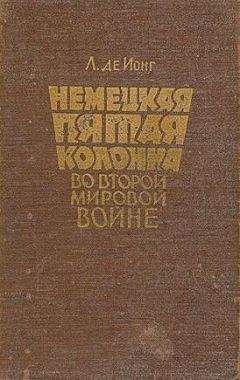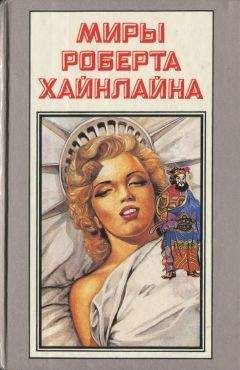Зазыба сразу догадался, о ком идет речь, конечно, о Прокопе Маштакове! Значит, райком партии все это время где-то здесь находился, в Забеседье!
Чубарь долго спал в тот день. Именно день, потому что давно уже минуло утро, а он не просыпался, благо в Гапкиной хате стояла глухая тишина, будто нарочно для крепкого сна, — напуганная пожаром в Поддубище, хозяйка давно побежала в поле, чтобы, расстелив рядно на полосе, хоть наспех вальком околотить сжатые снопы. Чубаря же эти крестьянские заботы совеем не занимали. Придя ночью из Поддубища, он долго стоял на подворье, глядел в ту сторону, где за лесом, стеной темного ельника, отделяющего Мамоновку от Веремеек, то вскидывалось вдруг вверх, то припадало снова к земле зарево. У него в мыслях не было поджигать Поддубище. Он только собрался догнать Зазыбу, чтобы тот не говорил о нем Миките Дранице — Зазыбово сомнение сразу, как тот ушел, передалось и ему и он понял, что, наверное, все-таки не стоит обнаруживать своего присутствия в колхозе раньше времени. Конечно, делать великую тайну из того, что он вернулся назад, Чубарь не собирался, зачем тогда было вообще идти сюда, но ведь не зря говорят — береженого и бог бережет, тем более что теперь он мог накликать беду и на Аграфену. Во всяком случае, мысль эта пришла к Чубарю вовремя, и он вдруг остро пожалел, что не послушался сразу Зазыбу, а безрассудно возразил, словно бы из злобной мести хотел доказать Денису Евменовичу, что у страха и вправду глаза велики. Схватив винтовку, которая, словно живое существо, лежала у стены под одеялом на постели, он выскочил чуть ли не следом за Зазыбой, однако в сумерках не только догнать, но и углядеть его не успел, будто он сквозь землю провалился. Откуда было знать, что Зазыба не пошел в Веремейки обычной дорогой, а отправился к озеру потайной тропкой. Растерянный Чубарь быстро проскочил дорогу до Веремеек, потом обошел крайние дворы и вышел на дорогу, наезженную мимо деревни. При этом у него не было ясной цели, только досада в душе, что не догнал Зазыбу, и с этой досадой Чубарь топал до самой гутянской дороги, откуда начинался ржаной клин в Поддубище. Деревня уже, видно, улеглась па покой, потому что ни в одной хате, кажется, не было огня. От перекрестка, который создавали здесь две дороги, можно было мимо глинища свободно добраться до заулка, где стояла Зазыбова хата. Но Чубарь вспомнил, что Зазыба теперь живет не один, что вернулся сын, которого Чубарь никогда не видел, поэтому намерение идти туда отпало быстро. Стоя у межевого столба на скрещении дорог, Чубарь некоторое время колебался, куда ему теперь лучше отправиться. Возвращаться в Мамоновку не хотелось — будто пришел сюда на свидание и тот человек, к которому он спешил, всего только опаздывает, нужно подождать. Однако и стоять тут, как цепью прикованному к столбу, тоже не было резона, потому что светила луна и из деревни даже на таком расстоянии нетрудно было углядеть человеческую фигуру, если бы кому вздумалось. Поэтому Чубарь вскоре отошел к первой копне на углу клина и, прислонившись спиной, остановился там, думая просто постоять несколько минут в затишке. Стал и задумался. До сих пор он ни разу не усомнился, правильно ли сделал, вообще вернувшись в колхоз. Этот факт для него был уже как бы само собой разумеющимся. Казалось, иначе и поступить нельзя в его положении, особенно если учесть, что шел он сюда с более чем определенной целью. Об этом он и Зазыбе уже сегодня объявил. А тут вдруг будто что стронулось в нем, пошатнулась уверенность. Может, причиной этому явилась затаившаяся деревня, его теперешнее одиночество и то, что приходилось прятаться от знакомых людей…
Такие натуры, как Чубарь, обычно хорошо чувствуют себя в коллективе. Они одинаково способны руководить коллективом и подчиняться ему. Это все равно как те шестеренки в громадном механизме, которые по отдельности только лежат да ржавеют. Чтобы прийти в движение, им необходима связь между собой, взаимное действие, если вообще можно это сравнивать с людьми. Словом, Чубарь уже готов был даже пожалеть, что встретил за Ипутью полкового комиссара с его бойцами, выходящих из окружения. Если бы тогда проехал он на лошади мимо их военного лагеря, теперь не стоял бы здесь неприкаянным, на веремейковском поле, не было бы нужды думать да беспокоиться о всяких существенных и не существенных вещах, в том числе и о том, что поторопился вызвать к себе в Мамоновку Микиту Драницу. Нечего и сомневаться, что он, Чубарь, поблуждав близко или далеко по округе, повернул бы тогда назад к оборонительному рубежу, чтобы попытаться снова выйти к заветным Журиничам, где формировалось ополчение. А так…
Возвращаясь в Забеседье, Чубарь не надеялся застать В колхозе большие перемены. Он судил об этом по другим местностям. Не мог даже и представить себе, что колхоза в Веремейках который день уже нет, что в деревне, так же как и в обоих поселках, входящих в колхоз, крестьяне работают порознь, разделив засеянную землю. И уж совсем не пришло бы ему в голову, что на второй день после прихода в Бабиновичи немцев Веремейки обзаведутся полицейским в лице Браво-Животовского. О деревенских новостях Чубарю рассказали сперва Аграфена, а теперь Денис Зазыба. Но всего больше поразила Чубаря ловкость Браво-Животовского. Рассчитывать после этого, что бывший махновец (и об этом Чубарю стало известно от Аграфены), который сам, добровольно стал полицейским, будет молчать о Чубаревом появлении, никак не приходилось. Приняв оружие от немцев, Браво-Животовский сделался врагом…
Мысли эти пришли к Чубарю не сразу, не на протяжении одной минуты, а постепенно, одна за другой, по мере того, как он знакомился с обстановкой, сложившейся в его отсутствие, однако последняя мысль возникла только теперь, когда он стоял, прислонившись спиной к копне, и тупо глядел перед собой на темную деревню; это и совершило неожиданную перемену в Чубаревом внутреннем состоянии, в его чувствах. Довольно было вспомнить про Животовщика и про то, что полицай превратился в серьезную и, может быть, пока единственную помеху на его теперешнем пути, как только что пошатнувшаяся уверенность Чубаря перешла в свою противоположность — казалось, только для одного того, чтобы обезвредить Браво-Животовского, стоило вернуться в Забеседье. Незаметно эта злость, направленная на конкретного человека, распространилась и на другие, не менее реальные явления. А через некоторое время, которое исчислялось, разумеется, минутами, не более, она превратилась в ярость огульную, а потому не рассуждающую, пожалуй, уже ни о чем… И загорелось, вернее, было подожжено Поддубище. Внезапно Чубарю вспомнилась беседа с Зазыбой, та ее часть, которая касалась колхозного имущества, по директиве подлежащего уничтожению еще до оккупации. Зашла речь, даже спор между ними и об этом хлебе, который Чубарь, по правде говоря, не рассчитывал увидеть в копнах, потому что, уходя из Веремеек, отдал Зазыбе абсолютно ясное распоряжение. Оправдываясь, Зазыба сослался на секретаря райкома Маштакова, однако Чубарь склонен был истолковать неповиновение заместителя по меньшей мере нерешительностью, если вообще не боязнью взять на себя ответственность. Да и при чем здесь Маштаков? В конце концов, секретарь райкома сам знакомил районный актив с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б), и Чубарь помнит, какими комментариями сопровождалась она тогда, поэтому вряд ли мог потом Маштаков изменить мнение. Теперь, когда Чубарь вернулся в Забеседье, ответственность за все колхозные дела опять ложилась непосредственно на него, значит, и спрос будет с него. Находясь целиком во власти чувств, соответственных этим рассуждениям, которые не успокаивали, а, наоборот, усиливали в нем злость, Чубарь машинально сунул руку в боковой карман толстовки, нащупал коробок со спичками, которые остались еще с тех пор, как он, Шпакевич и Холодилов поджигали на Деряжне мост. Чубарь понимал, что более удобного случая, чем теперь, у него, пожалуй, не будет для такого дела: стоило вынуть из коробка спичку и чиркнуть ею по шершавому боку, чтобы мгновенно запылала первая копна. Чубарь оттолкнулся локтем от жесткой копны, снопы которой были уложены колосьями внутрь, и вышел из укрытия. С поля хоть и не сильный, но дул ветер. Надо было отойти подальше, ну, хоть на середину клина, чтобы оттуда потом погнало пламя по жнивью. Подбрасывая, будто забавляясь, коробок на ладони, Чубарь прошел метров четыреста вдоль гутянской дороги, повернул резко направо и двинулся по жнивью вверх по склону кургана. Для поджога он выбрал чью-то лохматую копну, почти скирду, наверное, сюда были снесены снопы со всей полосы. Рядом, как нарочно приготовленный, жался суслон. Чубарь ударил ногой по нему, подхватил с земли два снопа, разлетевшиеся от его удара, приложил колосками друг к другу.
Оставалось только поджечь. Но прежде Чубарь оглянулся по сторонам, будто боялся, что его вдруг застанут за этим делом. Ничего подозрительного вокруг не было. Тогда Чубарь поймал в коробке спичку, чиркнул. Подождав, пока сгорит сера и займется дерево, он тут же поднес огонек к снопам как раз в том месте, где были состыкованы колоски, и легкое пламя сразу же побежало по соломе, а в следующий момент перескочило на копну. Не напрасно этот год рожь долго стояла в поле. Солома, так же как и жнивье, давно уже пересохла, и пожар не заставил себя ждать да много усердствовать. Поняв, что тут, возле этой лохматой копны, больше нечего делать, Чубарь схватил за жесткий конец пылающий сноп и, торопясь, чтобы пламя, которое раздувал ветер, не обожгло руки, побежал с ним к другой копне. Потом, выхватывая новый сноп, он бежал к следующей, все дальше по сжатому клину, стараясь попадать в центр его, благо было светло от луны, и пламя, которое в темную ночь могло бы просто слепить глаза, сегодня совсем не мешало рассмотреть все вокруг. Лицо Чубаря от огня быстро сделалось горячим, руки, хотя он и старался уберечь их от ожогов, уже тоже жгло, будто кожа на них взялась волдырями. Делал Чубарь свое дело спокойно и без недавней злости, как что-то самое обыкновенное, будто собирался готовить под засев вырубку и перед этим подпаливал хворост. Наконец он бросил последний пылающий сноп еще на одну копну, провел по толстовке ладонями, вытирая сажу, и оглянулся на то, что так легко совершил, даже не запыхавшись. Расчет был правилен. Огонь уже охватил не только те копны, которые Чубарь поджег, но устремился по склону вниз, подбираясь все к новым и новым. Казалось, растекалась во все стороны пылающая смола. Больше здесь, в Поддубище, делать было нечего, и Чубарь, поправив толчком, как мешок на спине, винтовку, которая висела наискось, пошел прочь, обходя с тыльной стороны курган. Хотя назавтра в деревне и говорили, что кто-то стрелял на пожаре, однако до самой Мамоновки он винтовку не снимал…