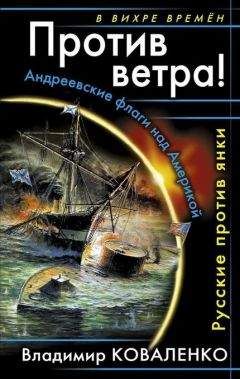— Вы же сами сказали, что они окончательно обессилены.
— У них ружья. Для того, чтобы выпустить пулю, много сил не нужно. Я думаю, что если мы еще некоторое время продержим их в оцеплении, они выйдут сами. Если же мы пойдем туда, это будет стоить нам людей.
— Нельзя воевать, не теряя людей, — деловито сказал Уэсселс. — Если снегопад затянется, трудно будет добираться обратно до форта.
Джонсон пожал плечами. — Я полагаю, что как только они увидят гаубицы, они выйдут.
— Возможно.
— Я возьму одного из ваших разведчиков и поговорю с ними, — сказал Джонсон.
— Никогда вы не сговоритесь с воинами Собаки.
— Я все-таки попробую, — сказал Джонсон.
Он пошел вместе с разведчиком-сиу, по прозванию Боязливый, который и не думал скрывать своего страха. На ломаном английском языке он объяснил Джонсону, что когда-то шайенов и сиу связывала тесная дружба. И шайены могут убить его именно потому, что он прежде был им другом; Джонсон — враг, и это гораздо безопаснее. Быть врагом — очень просто.
— Говори с ними! — приказал Джонсон. — Слышишь? Говори с ними!
Боязливый шел согнувшись, пряча лицо от ветра и держась поближе к капитану. Когда они оказались в трех-четырех ярдах от укрытия, несколько индейцев поднялись и среди них — дряхлый, дряхлый старик. Они качались, как сухая трава, за густой завесой снега.
— Скажи им, что бесполезно сражаться с нами, — начал Джонсон. — Они полностью окружены нашими войсками, и прорваться им невозможно. Если они сдадутся, мы накормим их и доставим в форт, где они будут в тепле и под крышей. А если они станут сражаться, много их воинов умрет.
Разведчик заговорил, нервно прижимая к груди сложенные накрест руки, и его певучая речь слилась с воем ветра и шелестом снежинок. Старик ответил учтиво, мягко — и этот голос, исходивший из умирающего, ссохшегося тела, казался вызовом разуму и здравому смыслу.
— Он говорит — они уже умерли, — перевел сиу. — Они идут домой, домой, идут далеко… — Где-то за его словами угадывалась поэзия и ритм, вся сложная красота первобытной и музыкальной речи: — Они умерли, идут далеко…
— Да ты, чтоб тебя, объясни им: сюда везут большие пушки, и эти пушки разнесут их в клочья!
— Они умерли, идут далеко, — пожал плечами разведчик-сиу.
* * *
Атаку организовал Уэсселс. Половина эскадрона должна была наступать в пешем строю, но только с одной стороны, чтобы устранить опасность собственного перекрестного огня. Солдаты стояли в глубоком снегу; рукавицы пришлось снять, чтобы вести огонь, и руки их посинели от холода. Уэсселс приложил к губам свисток, и солдаты побежали, согнувшись, скользя по снегу, пытаясь разглядеть индейский лагерь сквозь завесу снежных хлопьев. Снег падал так густо, что они не видели шайенских траншей, но шайены, вероятно, заметили синие фигуры на белой сетке снегопада. Они дали залп, и солдаты с проклятьями, обливаясь кровью, откатились назад, к Уэсселсу.
Они отступили потому, что невозможно лежать в снегу и целиться во врага, которого не видишь. Они отступили, и Уэсселс сознался Джонсону:
— Так не годится. Надо дожидаться орудий.
Он сделал попытку, она не удалась, и Джонсону не за что упрекать его. Для Уэсселса раненые были такой же неотъемлемой принадлежностью армии, как солдатские мундиры. Он невозмутимо уложил поудобнее солдата, у которого было прострелено бедро, помог перевязать сломанную руку другому. Когда несколько солдат поползли обратно и принесли молоденького кавалериста, Джеда Харли, которому пуля попала в голову, Уэсселс лишь молча сделал отметку в своей записной книжке.
— Эта краснокожая сволочь, — хладнокровно сказал он, — продержит нас здесь до утра. — И добавил глубокомысленно: — Они замерзнут.
К полуночи снег перестал падать, но ветер продолжал дуть и наметал большие сугробы. А немного позже прибыли фургоны и две гаубицы. Уэсселс дождался орудий и лег спать лишь после того, как для обеих гаубиц были сделаны площадки, и орудия были установлены и заряжены.
Когда капитан Джонсон утром проснулся, Уэсселс был уже на ногах и отдавал распоряжения артиллеристам. Уэсселс изложил свой план: построить кавалеристов кольцом вокруг индейцев и медленно наступать, пока гаубицы будут бить по лагерю. Солдаты не пойдут в атаку, но будут готовы встретить шайенов, как только снаряды сделают свое дело.
— Лагерь полон женщин и детей, — сказал Джонсон. — Там не больше сорока-пятидесяти мужчин.
— Сами виноваты, — пожал плечами Уэсселс.
— Им нечего есть. Завтра они явятся добровольно.
— Приказ полковника — взять их немедленно.
— Он не знает…
— Про женщин и детей? Знает. Он приказал взять их. Это наиболее безопасный способ. Зачем нам терять еще людей, если можно обойтись без этого? Снаряды заставят их выйти.
Джонсон неохотно согласился.
Кавалеристы заняли позиции, охватив лагерь широким кольцом. Лагерь был тих, — небольшой холм среди заснеженных просторов. Ветер улегся, он дул теперь только изредка, мягкими порывами, завивая струйки снега, которые точно плясали перед ним. Среди шайенов не было приметного движения, только время от времени белая, словно закутанная в полотно, фигура поднималась и, спотыкаясь, переходила на другое место; или кто-нибудь выйдет на несколько шагов вперед, за бруствер, и снова скроется.
Уэсселс подошел к пушкам и в бинокль следил за движением войск. Джонсон остался с кавалеристами. Уэсселс подождал, чтобы все солдаты заняли свои места, потом резко взмахнул рукой. Одна из гаубиц, откатившись по снегу, изрыгнула дым и пламя. Снаряд взвизгнул и разорвался за лагерем, и земля, смешанная со снегом, раскрылась, как распустившийся цветок под утренним солнцем.
Командовавший батареей лейтенант прокричал поправку. Взревела вторая гаубица, и на этот раз снаряд, описав дугу, упал прямо в середину лагеря; тогда лагерь ожил, фигуры шайенов беспокойно задвигались, и даже на расстоянии чувствовались их обида, боль и смятение.
Уэсселс скомандовал: — Огонь! — и гаубица опять заревела. Теперь в распустившемся цветке взрыва была плоть и кровь и человеческие устремления, рассыпавшиеся прахом.
— Я думаю, этого достаточно, — сказал Уэсселс. Старый, старый вождь вышел первым, подняв руки, утратив в грохоте взрывов свою учтивую непокорность. Войска сжали кольцо, но не слишком плотно. Джонсон и разведчик-сиу Боязливый пошли навстречу старому вождю. Затем появились еще два шайена — высокие, изможденные, полумертвые от голода и холода; трудно было себе представить, какими они были прежде. Они помогли старику пробраться через сугробы и стали рядом с ним, когда он сошелся с Джонсоном. И несмотря на то, что поражение шайенов было полное и окончательное, Джонсон так остро ощутил стойкость их сопротивления, что сказал мягко, почти смиренно:
— Даже храбрые воины вынуждены сдаться, когда ничего другого не остается.
Боязливый перевел, и старый вождь кивнул. Слезы текли по его потрескавшимся от мороза жестким щекам.
— Он говорит — там женщины и дети под снарядом. Капитан Джонсон с трудом проговорил: — Мне очень жаль…
— Они теперь пойдут с вами. Они больше не идут домой.
— Спроси, как его имя, — прошептал Джонсон.
— Тупой Нож. Другой — Старый Ворон, а этот — Дикий Кабан. Великие вожди.
— Великие вожди, — повторил Джонсон, кивнув головой. — Спроси его, где Маленький Волк и все остальное племя?
— Они ушли домой. Племя разделилось на две части: они думали, может быть, одна уйдет от солдат. Одна — по этой дороге, другая — по той. Тупой Нож ушел в пески. Маленький Волк взял молодых — ушел на север… на север… — Он указал рукой на заснеженный север: — Может быть, через границу.
— Канады?
— Может, Канады, может, Паудер-Ривер…
— Скажи ему, — проговорил Джонсон, — чтобы он принес нам ружья, все ружья, и тогда мы их накормим.
* * *
Уэсселс, сосчитав ружья, сказал: — Здесь всего тридцать, и ни одного револьвера.
— Может быть, это все, что у них осталось? — заметил Джонсон.
— Сомневаюсь. У них должны были быть револьверы.
— Индейцы не любят револьверов.
— Все-таки у них должны быть револьверы, хотя бы несколько. Следовало бы обыскать женщин.
— Женщин? — тихо переспросил Джонсон.
— Это же индианки.
Джонсон повернулся к нему спиной и пошел прочь. Уэсселс пожал плечами и уставился на ружья. Будь он один и старшим по команде, он обыскал бы женщин, но при Джонсоне…
Он отказался от своего намерения, велел перенумеровать ружья и упаковать их. Затем направился туда, где шайенов кормили под бдительным надзором вооруженной охраны. Его мало трогал вид измученной, полумертвой от голода и холода темнокожей толпы. Это было нечто лежащее вне его, из другого мира. Даже их муки были чужды и далеки ему. Если он и замечал детские лица с обтянутыми скулами и огромными глазами, то они не вызывали в нем никаких мыслей: он только констатировал факт — значит, индейские дети такие, — и все.