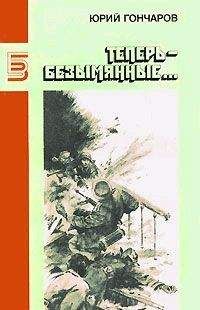– Если цела – пусть дадут к ней связь. Полезу, погляжу своими глазами, где нам воевать... И вы со мной, вам это тоже пригодится...
– Хорошо, Устин Иванович... – готовно ответил Федянский. Не прекословя, он исполнил бы сейчас любое приказание комдива, полез бы с ним не только на вышку, но и к немцам на передовую, лишь бы обелить себя в его глазах.
А Остроухов вел себя, будто и не собирался ни в чем укорять своего помощника, то ли поглощенный своими заботами, то ли намеренно решив промолчать, оставить у него на совести стыдный для него эпизод.
Вышка оказалась цела. Когда комдив и Федянский подъехали к ней на верховых лошадях, связисты уже подняли на смотровую площадку полевой телефон, а саму площадку для маскировки обгородили зелеными ветками.
– Видать город? – спросил Остроухов у старшего над связистами, сержанта, белобрового, крепкого сибиряцкого сложения паренька, отдавая ему поводья.
– Видать, товарищ полковник, – сказал сержант, приматывая поводья к одной из бревенчатых опор вышки. – Только дымящем все позакрыто, как в тумане... А конек-то ваш голодный, глядите, как он к веткам тянется. Спутать его, что ль, чтоб он тут пока попасся?
– Ну, спутай, спутай, – отозвался Остроухов, занятый своими мыслями и явно пропуская мимо сознания то, что говорит ему сержант про коня.
Длинную отвесную лестницу на площадку давно не чинили, иных ступеней в ней не хватало. Остроухов потряс ее, проверяя прочность, полез вверх. Был он не тяжел, но лестница от его веса и движений зашаталась, заскрипела снизу до самого верха.
Следом за ним, немного выждав, отправился Федянский, от непривычки лазить по таким лестницам неловко перебирая руками и неуверенно ставя ноги, с тайной неохотой расставшись с землею, где частые древесные стволы и густая зелень давали чувство защищенности.
Город, придавленный дымной, до черноты ночи сгустившейся у нижнего края тучей, неподвижно стоявшей в половину всего вечернего небосвода, казался значительно более удаленным от леса, чем показывала карта. В дыму желтели, взблескивали языки пламени, медленно лизавшие костяки зданий, уже выглоданных изнутри огнем, сквозивших пробоинами, пустыми дырами окон.
Ближе всех других строений сквозь дым и белесый вечерний туман, растекавшийся из котловины парка по голому пустырю перед городом, могучим монолитом, угловатой несокрушимой скалою высилось здание городской больницы. Тусклый закат отсвечивал в сохранившихся кое-где стеклах, но в целом громадная, молчащая масса бетона и камня выглядела темно и мрачно, зримым воплощением той грозной, беспощадной силы, что затаилась внутри, господствуя надо всем обширным окружающим пространством.
Остроухов поднес к глазам бинокль. Крепость! Ах, что было бы, если бы у него не хватило характера восстать против генеральского приказа! Выйти против такой твердыни без артиллерийской поддержки! Нет, пока пушкари как следует не поработают – пехоте туда и близко нельзя соваться!..
* * *
И еще одно небольшое событие, оставшееся известным лишь малому числу лиц из немецкого командования и рядового состава, но косвенно отразившееся на дальнейшем ходе военных действий в районе города, произошло в этот день 18 июля.
Рано утром, в то время, когда головные колонны дивизии Остроухова еще тянулись по лесным дорогам далеко к северо-востоку от города, медленно к нему приближаясь, с западной стороны, из глубокого немецкого тыла, по пыльному шоссе в городские пределы мягко и почти бесшумно въехала на большой скорости низкая, приплюснутая к земле легковая автомашина, как все фронтовые автомашины, по-тигриному испятнанная желто-бурыми полосами и разводами, с пучками сухих и свежих веток на крыше и по бокам. Специальное тавро на ее бортах указывало, что машина принадлежала штабу армейской группировки, к которой относились и сражавшиеся в районе захваченного города войска.
В начале первой же городской улицы машину остановил патруль во главе с рослым унтер-офицером, украшенным знаком участника зимнего сражения под Москвой. Рассмотрев поданные ему из машины документы, он, с дружелюбием и интересом обратив глаза на единственного пассажира, помещавшегося на переднем сиденье рядом с шофером, отдал ему честь – не просто как воинское приветствие, но выразив свою особую почтительность, и жестом показал солдатам, чтобы те отвели в сторону полосатую перекладину шлагбаума, преграждавшего дорогу. Машина, покачиваясь на неровностях булыжной мостовой, касаясь земли концами свисавших веток и пыля ими, покатила дальше, среди других автомашин, преимущественно грузовых, въезжавших в город и выезжавших из него.
Через минуту шоферу пришлось резко сбавить ход и с осторожностью провести машину в узкую брешь, специально для проезда транспорта проделанную в баррикаде из ящиков и мешков с песком. Такие баррикады, развороченные снарядами, подтверждавшие всем своим видом, как упорно обороняли русские город и как нелегко было его взять, встречались на городских улицах почти на каждом перекрестке. Одна из баррикад хранила следы особенно ожесточенной борьбы Пассажир остановил машину, вышел и со вниманием осмотрел баррикаду с обеих сторон, устроенные в ней узкие бойницы для винтовочных и пулеметных стволов, немецкий танк, как видно, пытавшийся на полном ходу протаранить толщу мешков с песком и застрявший в них, валяющиеся русские и немецкие каски, пустые патронные ящики, неиспользованные ручные гранаты, гильзы, автоматные диски, разбитое, искривленное, негодное оружие.
Единственный пассажир машины, одетый в форму офицера полевой армии, сшитую и пригнанную к его спортивной фигуре с большим искусством, чем это доступно обычным армейским портным, светловолосый, не старше тридцатипятилетнего возраста, в дымчатых очках, втопленных в глубь широких глазниц, под крутые надбровные дуги, с пристальным интересом воспринимавший картину разгромленного города, – был популярный военный журналист Густав Эггер, прибывший сюда из Берлина, через ставку командующего армией, со специальным, особо важным заданием. В Берлине факт овладения городом расценивали очень высоко. По распоряжению фюрера отличившимся в боях было роздано большое количество железных крестов. На Густава Эггера возлагалась почетная и ответственная миссия: побывать на отвоеванной территории и затем в статьях и фотоснимках еще раз показать немецкому народу оправданность несомых им тягот и жертв – показать, сколь крупна и значительна последняя победа на Восточном фронте, Сколь блестяще она опять демонстрирует высокую боевую доблесть немецкой армии, какие тяжкие, невосполнимые потери вновь понесли большевики, какой удар совершен по их экономике, по их военно-производственному потенциалу с отнятием у них такого мощного промышленного центра, – где многие тысячи рабочих с предельным напряжением днем и ночью трудились для обеспечения нужд советской армии.
В Министерстве пропаганды перед отлетом из Берлина на фронт Эггера предусмотрительно снабдили подробными справочными сведениями, которые могли понадобиться для составления корреспонденции и которые ему рекомендовали обязательно использовать, чтобы подчеркнуть значительность русского города и тем самым значительность нового успеха германских вооруженных сил. В стройном порядке, по разделам, в записную книжку Эггера были переписаны данные о географическом положении города (более тысячи километров от границы – вот как далеко уже пронес немецкий солдат свою власть!), о его героическом прошлом (в русской истории еще не было эпизода, чтобы этот город подвергся иностранной оккупации), о месте и значении в системе других городов Советской России (такое-то место по производству каучука, такое-то – по производству электроэнергии, авиамоторов, железнодорожного подвижного состава, прочих стратегически важных средств). В блокнот Эггера были также вписаны названия всех существовавших в городе заводов с подробными указаниями на характер и количество выпускаемой продукции и на численность обслуживавших их рабочих.
Кроме этих данных, Эггер также получил список командиров и солдат передовых частей, награжденных фюрером и достойных того, чтобы их боевые заслуги нашли отражение на страницах печати как примеры образцового выполнения воинского и патриотического долга.
Теперь сухим, кратким записям предстояло обрести в глазах Эггера зримую реальность, превратиться в кадры его фоторепортажей, которых с нетерпением ожидали в редакциях полдюжины берлинских иллюстрированных журналов и газет.
Чем дальше к центру, тем все гуще и удушливей несло гарью и дымом, зловонием разлагающихся в развалинах зданий трупов, тем все чернее делалось над головою небо, сумрачнее гас свет утра. Машина подвигалась медленно, шофер зорко смотрел вперед и с осторожностью выбирал дорогу, потому что мостовые и тротуары были усеяны кирпичными обломками, перегорожены сломанными деревьями, рухнувшими столбами городской электросети, опрокинутыми трамваями, издырявленными пулями и осколками, грузовыми автомашинами, военными фургонами и повозками, которые бросили при отступлении советские войска.