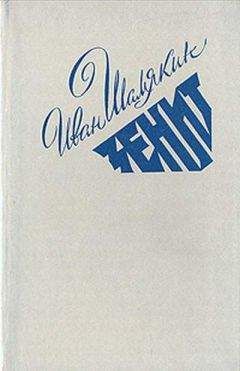Данилов ходил между штабелями бревен, досок, брусков, шпал, вдыхал острый смолистый запах нагретой солнцем древесины и, не скрывая, любовался всем богатством, от которого и на меня дохнуло миром и покоем.
— Ты посмотри, какие досочки! — радостно, как-то по-мальчишески крикнул Данилов, заметив меня. — Как распилены! Как сложены! В хозяйственности и аккуратности финнам не откажешь! Нет, ты посмотри! Сколько у них леса! Война, а нигде не валяется ни одного бревнышка. Штабели. Штабели.
— Откуда у тебя хозяйственная жилка?
В Кандалакше его батарею ставили в пример за бытовую упорядоченность: лучшие землянки, лучшие НП[4] и КП.
— От отца.
— От отца?
— Чему вы все удивляетесь? Думаете, если цыган, то не хозяин? Мой отец был лучший колесник. Его знали во всех таборах от Кишинева до Минска. А может, и дальше. Я называю города, что запомнил, через которые проезжал наш табор. Я в детском доме столярничал. Вот хожу смотрю, что нужно для батареи, когда осядем на этой медвежьей горе. Тут, брат, не зевай. Пока комендант лапу не наложил или не появятся гражданские хозяева. Ходи тогда — снимай шапку. А мы отучились перед штатскими шапку ломать.
— Ты знаешь историю с Росликом?
— Знаю.
— И что?
— «Что, что»! Жаль парня. А больше — что? Кузаев выдаст мне. Я — Унярхе. Он… Нет, и Шиманскому сам влеплю на всю катушку. Пусть поойкает.
— Унярха говорит, что это… самострел… самоувечье.
— Что? — Глаза у Данилова сразу изменили цвет. — Кому он сказал? Тебе?
— Мне.
Глаза его недобро заискрились.
— У-у! — И выругался по-цыгански. — Да он сам мне докладывал как о несчастном случае. Вот подлая душа! Ну, я с ним поговорю!
Данилов одернул гимнастерку, подтянул ремень, стукнул по кобуре пистолета и чуть ли не бегом направился в сторону батареи.
Я испугался, что вызвал тот приступ гнева, которого он сам боится.
— Саша! Только спокойно!
Он оглянулся и сказал почти рассудительно, успокаивающе:
— Не иди за мной! Я сам! Не бойся.
Я стоял и смотрел на его спину, где под потными пятнами гимнастерки от быстрой ходьбы красиво изгибались пружинистые мускулы.
Я долго смотрел ему вслед, и мне до непривычных спазм в горле, до сладких слез стало утешительно и радостно, что есть такие люди, как Данилов, и что он — мой друг.
Тихо, ласково, непривычно для огрубевших от выстрелов ушей, очень уж мирно журчала вода, плескалась о борт. А вокруг тишина. Странная тишина. Сложная. Одновременно и спокойная, и тревожно-обманчивая. Здесь, на барже. И над всем бескрайним в сумраке белой ночи озером. Ночь — белая-белая. А все-таки ночь. На небе — несколько тусклых звездочек. Одна — яркая. Она плывет точно золотая рыбка в черной… нет, не в черной, какой-то странно сизой воде. Никогда не видел такого оттенка воды. От белого неба? От близкого северного солнца, такого знакомого нам там, в Мурманске? Тут оно спряталось на какие-то три часа. Позади нас, за кормой баржи, небо совсем белое. И на его фоне вырисовывается фантастический контур черного страшилища с единственным зеленым глазом. Это еще одна наша баржа. Очертания странные — от соединения буксирного пароходика и баржи. Такой же буксир и у нас впереди, довольно далеко. Кабы не его натужливое пыхтенье, шлепанье лопастей о воду, действительно ничто не нарушало бы первозданной тишины былинной Онего!
Едва приметно плывет «золотая рыбка» в сизой воде. Так мы плывем. Очень медленно. Не хватает силы у буксира? Или нам некуда спешить?
И вправду, спешить нам некуда. Врага мы не догоним.
Вряд ли кто-нибудь еще мечтает пострелять по танкам.
Только заняли позиции в Медвежьегорске — команда: грузиться на баржи. Никто не видел, когда и откуда они приплыли, эти длинные, дырявые, с пробитыми боками, с опаленными палубами посудины. Того энтузиазма, с которым грузились в Кандалакше в поезд, здесь при погрузке не было и в помине. Люди устали. Двое суток работали без передышки. Копали котлованы под орудия, под землянки, оборудовали в подвале сгоревшего дома артсклад, а в другом месте — продовольственный и обозно-вещевой склады.
Энтузиазма не было и по другой причине — угнетала неизвестность: где высадимся с нашими тяжелыми пушками, с большим запасом снарядов? Да и опасность почувствовали большую, чем когда бы то ни было. Опасность не ту, что в бою. Любом, даже с танками. Опасность от бессилия. Мы можем обороняться от авиации только батареей МЗА — на каждой барже по две пушки — да зенитными пулеметами. Но боялись не самолетов, хотя основное оружие — «восьмидесятипятки» — накрыло чехлами, на баржах батареи не развернешь. Говорили о минах, плавающих в Онежском озере. Я сначала почему-то не подумал о минах. Услышал о них от пожилых бойцов, говоривших украдкой и встревоженно. Настроение их обеспокоило. Сказал Колбенко. Тот удивил ответом:
— Настроение как настроение. Как у живых людей. Тебе хочется прогуляться на дно Онежского озера? Мне не хочется. Кто нас подберет?
Неприятный холод пронзил от его слов. Ходил утешительный слух, что сопровождать баржи будут военные катера, мечтали даже о минном тральщике, что якобы будет расчищать водный путь. Офицеры знали, какие все это химеры. Онежской флотилии в это горячее время не до нас. Где только нашли трухлявые баржи и два, разные по виду и мощности, пароходика?!
Тот, что тянет заднюю баржу, часто сыплет из трубы искры. Они наверняка далеко видны. Но имеет ли это значение? Самолеты нас заметят с любой высоты, особенно солнечным утром, что придет на смену белой ночи. А мины — слепые. Мина — фатализм, судьба.
Отплыли из Медвежьегорска с наступлением ночи. Хотя какая там ночь! Газету читай. Тогда же радисты приняли сообщение Совинформбюро: освобожден Петрозаводск. Особой радости не выявили. «Ура» не кричали. Свыклись люди и очень устали.
Но добрая весть внесла ясность и дала успокоение: все идет по плану, как стало известно еще в Кандалакше, мы становимся в Петрозаводске. Потому так крепко спят люди в эту дивную белую ночь. Спят в трюме на снарядных ящиках, на тюках шинелей и гимнастерок. Спят на палубе — кто где приладился: под ящиками с песком, под чехлами, которыми покрыты пушки; старшие офицеры — в тесной и душной каюте команды. Я тоже полежал там. Но заснуть не мог. Не спится. От какого-то странно возвышенного и одновременно почему-то грустного настроения — белая ночь тому причиной, что ли? А может, глубоко запрятанный страх: не сонным встретить мину. Увидеть свою смерть. Попытаться сразиться с ней. Я неплохо плаваю, на Днепре вырос. Но кто поможет здесь, кто подберет? Сколько до ближайшего берега? Какова глубина озера? Как долго придется опускаться на дно? Дурные мысли. Гнать их прочь! Никогда же раньше таких не было. Разве в сорок первом, на Петсамской дороге?..
Расчеты МЗА спят тут же, у своих орудий. Спит и дежурный разведчик, опершись на винтовку. Надо уметь спать стоя. Не услышал даже моих шагов. За сон на посту — суровое наказание. Но мне жаль бойца — девушка. Легонько дотронулся до ее плеча. Она встрепенулась. Очень испугалась. Хотела что-то докладывать.
— Ша-а, — прошептал я. — Но не спи, Роза. Не спи. В такую белую ночь они могут прилететь.
— Спасибо вам, товарищ младший лейтенант. Не буду.
Нет, не одному мне не спится. На носу баржи под чехлом, прикрывающим неразобранный дальномер, — затаенный шепот, поцелуи.
— Вася, милый, как я тебя люблю… как люблю… Не бросай меня, родной мой, — словно моленье богу.
— Ну что ты, глупая.
У меня предательски скрипят сапоги, я недавно сшил их у дивизионного сапожника — офицерские, хромовые. Однако парочка не услышала моих шагов.
Я замер на месте, затаив дыхание. По долгу службы я должен выявить этих двоих, нарушителей приказов… А их немало, приказов на сей счет, а еще больше слов — наших, политработников.
Да мне вдруг стало стыдно и за приказы те, пусть они и подписаны самим Сталиным, и за слова свои, а сказал я их столько, что ими, наверное, можно было бы загатить все Онежское озеро. Не впервые… Нет, не впервые меня захлестнула удивительная горячая волна радости от сознания всепобеждающей, неодолимой силы любви, которая здесь, на войне, наполнена особым смыслом.
Было совестно подслушивать, интимные отношения двоих всегда тайна, и тайна эта сохранилась людьми зрелыми, честными, чистыми душой. Но я боялся испугать их скрипом своих сапог. И стоял, зачарованный. Не их поцелуями. Своими чувствами. И мыслями. Я думал о Лиде. Как никогда раньше, мне хотелось вот так же обнять ее, поцеловать… Но попробуй только. Какой шум поднял бы Тужников: комсорг занимается любовью вместо того, чтобы вести упреждающую работу по «выходу из строя» бойцов. Впервые моя воспитательная работа показалась оскорбительной. Есть в ней что-то противоречащее жизни, неодолимой силе ее и как бы помогающее… смерти… Правда, теперь «острота вопроса», как любит говорить Тужников, притупилась. Поумнели и издающие приказы, и выполняющие их. А было же вначале: стращали штрафными ротами. Вспомнился случай, который я часто вспоминаю и за который мне давно уже стыдно.