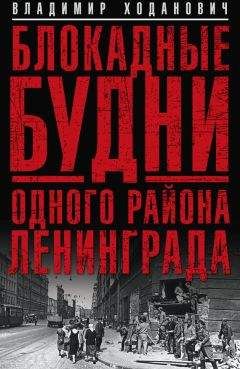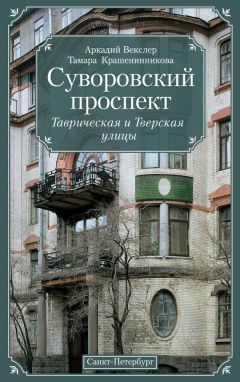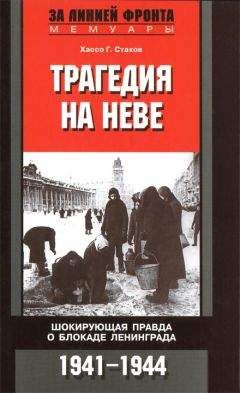Жизнь в городе сразу резко изменилась. Объявили мобилизацию, ввели обязательное затемнение, отменили выходные дни. На улицах появилось много рабочих: они прикрывали витрины магазинов мешками с песком, закрашивали купола церквей, крыши дворцов, фонари.
На заводах изменили график работы – вместо трёх смен ввели две по 12 часов и без выходного дня.
Огромные очереди выстроились в сберкассы и магазины; покупали всё съестное, даже горчицу.
Через несколько дней был объявлен призыв в народное ополчение. В военкоматах стояли очереди – мужчины записывались на фронт. От нашего цеха ушло много мужчин, из мастеров остались только двое: я и ещё одна девушка. Начались объявления о воздушной тревоге. На заводе РТИ организовали наблюдательный пункт и набрали команду из нескольких молодых работниц-наблюдателей. Они на крыше, с вышки, следили в бинокли за „воздухом“ и по местному радио сообщали в штаб МПВО ситуацию таким образом: „В воздухе всё спокойно»“ или «„Справа появился самолет“, и т. п. Из штаба, в случае надобности, сообщения передавали в цеха, тогда мастер по цепочке был обязан выводить „свою“ смену в специальное помещение. По сигналу „Отбой воздушной тревоги“ все возвращались на свои рабочие места. Я несколько раз дежурила на посту.
На улицах появились аэростаты, их „вели“ женские команды.
В июле начали отправлять горожан на оборонные работы (на «окопы»). Меня в конце июля послали под Кингисепп, в деревню Михайловка. Все это делалось очень организованно и серьёзно – выделяли несколько десятков человек (например, от цеха), до сотни, назначали „сотенного“, собирали всех у проходных, люди строились по четыре человека и пешком шли на Балтийский вокзал.
Надо отметить, что с первых дней, даже часов, ленинградцы показали удивительную собранность и серьезность. Я ни разу не слышала, чтобы были какие-то недовольства, жалобы и т. п. На удивление тихо, спокойно все шли и делали всё, что требовалось.
Прибыв на место, увидели, что здесь нет ни армии, ни жителей, ни живности. Мы рыли окопы примерно 2 метра в глубину и, наверное, 60 см в ширину. Работали ночью, потому что днём постоянно летали какие-то странные самолеты, мы их называли „рамами“. Это были разведчики, они наблюдали, как продвигается работа, и ближе к концу дня начинался обстрел. После довольно серьёзного обстрела (в нашем отряде ранило девушку) мы убежали из Михайловки, построились в ряды и пошли пешком к городу. Нас учили: идите тесным рядом, чтобы чувствовать плечо соседа, и постарайтесь вздремнуть. Днем дошли до железной дороги. Военный подсказал, что на путях стоит отходящий железнодорожный состав. Мы успели на последний поезд и, вернувшись на завод, приступили к работе.
Такие „окопные отряды“ посылались непрерывно, на смену друг другу. В следующий раз меня послали лишь в конце августа, потому что мастера были нужны на заводе. За месяц фронт приблизился баснословно близко. Наш отряд отправили в район поселка Горелово, причём здесь также не было ни военных, ни жителей; мы снова работали по ночам.
Меня однажды срочно „командировали“ за капустой для борща – недалеко было огромное капустное поле. Я только успела наклониться, чтобы сорвать вилок, как началось что-то страшное – загремели выстрелы, падали бомбы, и появился огромный шар чёрного дыма и огня. Я поняла, что началось наступление на Красное Село. Побежала к своему отряду, там уже приказали срочно уходить. Мы построились по четыре человека в ряд и отправились к железной дороге.
В тот день фашистская авиация совершила первый массированный налёт на город Ленинград. Сбрасывали огромное количество зажигательных бомб и тяжёлые фугасные бомбы. Город начал гореть, загорелись и Бадаевские склады.
Это произошло 8 сентября 1941 г. – в первый день блокады Ленинграда. Но мы об этом узнали только тогда, когда дошли до города. Из Горелова мы вышли днём, к ночи дошли до Володарки. Всю ночь шли строем, близко друг к другу, чтобы не упасть, не уснуть, и утром вышли к Лигову. Ночью было тихо, а утром в Лигове был сильнейший обстрел, было страшно, и под свист снарядов и грохот бомб мы побежали уже беспорядочно по направлению к шоссейной дороге. Наконец, выбежали на шоссе, которое вело к городу, на пр. Стачек. Напротив больницы им. Фореля нас подобрал случайный грузовик и довёз до Балтийского вокзала.
Город окружили вражеские войска. На окопные работы нас больше не посылали. Участились воздушные тревоги.
Постепенно ухудшалось питание. Продукты в магазинах стали исчезать, а на продуктовую карточку выдавали хлеб и кое-что из круп. Нормы на хлеб постепенно сокращались (с 25 ноября были установлены нормы на неопределенный срок: рабочим – 250 г, а служащим, иждивенцам и детям – по 125 г хлеба в сутки). Я получала по карточке 250 г.
Основные работы на нашем заводе постепенно начали сокращаться, отключили гидравлику, электроэнергию, воду, телефоны. Теперь работа заключалась в строгом круглосуточном обходе цехов и складов: следили за порядком, нет ли на территории чужих людей или каких-нибудь происшествий.
Стали объединять цеха, по два, так как людей для дежурства не хватало. Нашему цеху выделили комнату около 30 кв. м, поставили печь-буржуйку, дали фонарь „летучая мышь“ и санки среднего размера (не детские, но и не сани). Я направляла очередных дежурных в обход и следила, чтобы те сменялись вовремя; они обходили свою территорию попарно по одному часу, с „летучей мышью“. Санки использовали для доставки дров (их подбирали на территории завода) и для отправки домой тех рабочих, которые уже с трудом ходили. Иногда я сопровождала женщин, которые просили меня помочь им подняться по лестнице своего дома.
Обстрелы продолжались с немецкой методичностью, в одно и то же время; например, около 16 часов, когда одна смена кончала работу, а вторая приступала, или в 19 ч. 30 м., когда люди шли в ночную смену. В это же время на улицах появлялись женщины с детьми и узлами – спешили на ночь в бомбоубежища. Однажды снаряд попал в заводскую проходную, были жертвы, дежурный – диспетчер завода потерял ногу.
В конце октября, когда я шла на работу в ночную смену, в 19 ч. 30 м. начался шквальный обстрел (такого ещё не было, причём это было страшнее, чем бомбёжка). Женщины с детьми бежали навстречу мне в бомбоубежище.
До завода оставалось около 600 м, но идти было невозможно, потому что осколки, казалось, били прямо в лицо, и я поползла. По улице Циолковского доползла до моста через Обводный канал и побежала в проходную. С того дня я перешла жить на завод. Спала в конторке на стульях, не снимая пальто.
7 ноября мы с цехом собрались на демонстрацию. Было холодно, шёл мокрый снег, и постепенно все разошлись. (В тот год первый снег выпал в октябре, наступила ранняя и небывало холодная и затяжная зима.).
Было трудно привыкать к абсолютной темноте – все окна были тщательно зашторены. Если где-то появлялся даже маленький просвет, немедленно раздавались снизу свистки дежурных; следили за этим очень строго не только на заводе, но и в жилых домах, причем все немедленно исправляли затемнение. Не надо было лишних слов. Ленинградцы строго выполняли все правила.
Голод становился всё тяжелее. Рабочие, свободные от дежурства, сидели вокруг печурки и тихо говорили о двух вещах: когда же прибавят нормы на хлеб и когда наши войска возьмут Мгу (эта станция связывала нас с Большой землёй). Ещё рабочие говорили о еде. Каждый сообщал о своих любимых блюдах. Например, многие говорили о гречневой каше со шкварками. Одна девушка рассказывала, как она любила есть печенье: брала две штуки, одну намазывала сливочным маслом, а другой покрывала первую… Иногда я выходила в темный коридор, садилась на мешок с песком (их было много вокруг) и шептала: „Хочу есть, хочу есть.“ Это почему-то помогало.
Потери людей начались в декабре. Скончался один очень хороший человек, мастер Горохов. Он, сказали, сначала ослеп, а потом умер. Замечательный был человек, уважаемый всеми. В январе заметно начали редеть ряды мужчин, а в феврале и женщин.
Некоторые женщины меня жалели, потому что я жила на заводе, и приглашали на ночь к себе домой. Я познакомилась с бытом жителей осажденного города. Многие квартиры в городе были коммунальными. Жильцы выбирали самую большую комнату; каждая семья выбирала себе угол, а в середине ставили печь-буржуйку, на которой по очереди топили воду из снега или грели что у кого было. Так я ходила „в гости“ три раза, но однажды, переночевав в доме на ул. Халтурина, обнаружила у себя вшей и ходить перестала.
Меня разыскала сокурсница и предложила поискать небольшую комнату на заводе и соорудить там спальное место. Мы так и сделали. Стало полегче, можно было нормально спать. Засыпала я сразу. Спали мы одетыми: на мне было две шерстяных кофты, зимнее пальто, на голове мужской малахай, сверху завязанный полотенцем. Малахай плюс полотенце или шарф – был поголовный головной убор у всех ленинградцев. Так мы ходили и на заводе. Вот не помню, снимали или нет полотенце на ночь. На ногах у меня были дырявые фетровые домашние полусапожки, я их купила за 400 рублей. Фетр немедленно прохудился, я достала на галошном заводе красную теплую ткань и затыкала ею дырку.