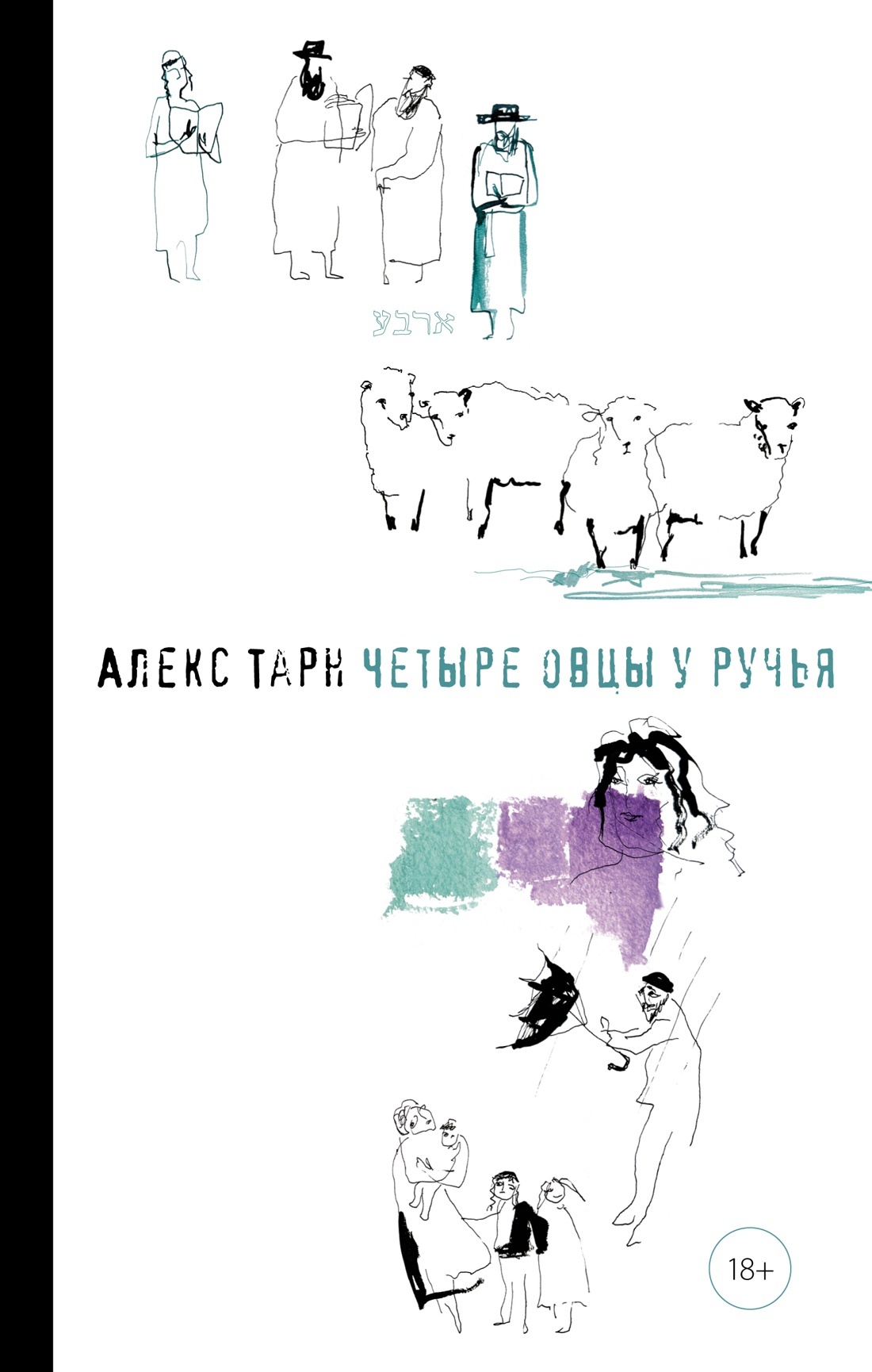накапливался кашель.
– Мне нельзя этого делать, Хаим, – говорил я устало. – Меня накажут, если соглашусь. Пожалей своего учителя.
Но он в ответ обижался еще больше и через слово напоминал, как я однажды сказал, что, возможно, затем и явился в мир, чтобы взять в ученики его, рабби Хаима Виталя. «Господи, неужели и в самом деле с моего языка слетела такая чепуха?» – думал я и отнекивался из последних сил. Не знаю, кто в итоге заставил меня сдаться – Хаим или болезнь. Помню, подумал вдруг, что мне уже нечего бояться, жить осталось совсем недолго, скажу ему, так уж и быть. В конце концов, как Всевышний может наказать смертельно больного?
Оказалось, может. Мой сын умер на следующий день от непонятной болезни. В точности как теперь Шлёма, на втором году жизни. Потому что нельзя. Нельзя!
После похорон Зося села поплакать рядом со мной. Если кто и понимал меня в этом мире, так это она, моя жена.
– Ты кашляешь чаще, чем обычно, – сказал я.
– Заметил? – она слабо улыбнулась сквозь слезы. – Я давно уже больна, Нухи. Не хотела тебя отвлекать, но, раз уж зашел разговор… Это чахотка. Мне осталось несколько месяцев.
Она откашлялась в платок – кровью. Тут-то, сидя на полу после похорон любимого сына, бок о бок с обреченной на близкую смерть любимой женой, я наконец и осознал свое место. Машиах? Величайший Праведник Поколения? Величайший глупец – так будет вернее! Мне казалось, что Творец назначил меня в Ионы, но в Его планах был как раз Иов. Где же я ошибся? Какие знаки истолковал неверно? Не знаю – да и так ли это важно? Важно, что я снова поторопился, примерив на себя чужие белые одежды…
Моей первой мыслью было уехать. Просто бросить всё: учеников, Бреслев, дом и, уж конечно, фантазии об Избавлении – и уехать. Взять жену и отвезти ее к ученым профессорам. Говорят, иногда чахотка лечится. Говорят, говорят, говорят… Мало ли что говорят: моя Зося умерла меньше чем через год. А спустя еще месяц-другой, откашлявшись, я увидел кровь и на своем платке. Что, в общем, справедливо: событий и страданий моих тридцати восьми лет хватило бы на все сто двадцать.
Сейчас уже можно сказать, что я не раз принимал посторонние шумы за дальний отголосок трубы Всевышнего. Иногда это был даже не гром, а всего лишь крик пролетевшей птицы. Но разве это повод для насмешек? Разве это делает меня плохим солдатом? Что лучше – сидеть сиднем в циничном неверии или вскакивать по первому звуку, опасаясь пропустить тревогу? Я выбрал второе и ни капельки не жалею.
Умирать я приехал сюда, в Умань, в комнату с окнами на кладбище, где в братских могилах лежат тысячи жертв гайдамацкой резни, случившейся тут сорок два года назад. Мне кажется, я вижу их: призраки младенцев, наколотых по трое – по четверо на одну казацкую пику, стариков, разрубленных шашкой от плеча до пояса, изнасилованных женщин со вспоротыми животами. Вижу утопленных в крови, замученных зверскими пытками, затоптанных заживо, брошенных в огонь вместе со свитками Торы.
Бесплотные, невидимые никому, кроме меня, кружат они вокруг надгробий с немым вопросом на кровоточащих губах: «Почему?»
– Не знаю, – шепчу я им. – Я всего лишь солдат, так же как и вы. Не в моих силах постичь пути и замысел Творения. Но о себе могу ответить точно: я сражался за вас – сражался и умер сражаясь. Именно поэтому мое место здесь, с вами. Пожалуйста, примите меня к себе…
– Учитель… Учитель, вы что-то сказали?
Это Натан с тетрадью наготове. Первый ученик никогда не упустит возможности записать последнее слово учителя. Я улыбаюсь.
– Слушай, Натан, – говорю я. – Четыре мудреца толковали о том, что такое мир. Первый сказал: «Мир – это то, что мы знаем. Знаем о земле, знаем о небе, знаем о море, и нет ничего, кроме этого знания». Второй сказал: «Мир – это то, чего мы не знаем. Наш разум слаб, наша фантазия убога; может ли муравей объять необъятное?» Третий сказал: «Мир – это узенькая доска, соединяющая берега ведомого и неведомого. Мы сидим на ней в сомнении, свесив ноги в пустоту и не решаясь сдвинуться с места – ни туда ни сюда…» Последний молча топнул ногой, мостик надломился, и все четверо легли на ладонь Всевышнего. Понял?
Натан восторженно кивает и пятится к двери. Я слышу, как он выскакивает в горницу, где ждут моей смерти другие ученики, и произносит свистящим полушепотом:
– Учитель сказал, что весь мир – это очень узенький мостик!
Я вздыхаю и закрываю глаза.
20
Дождь кончился; в Иерусалиме он гневлив и силен, но скоротечен, словно заботится не о том, как получше напоить землю, а о том, как побыстрее очистить ее от всевозможного – в основном человеческого – хлама. Мне становится жарко. Болезнь швыряет мое тело-личинку из холода в жар и обратно – раскачивает туда-сюда, как стоматолог, ухватившийся щипцами за выдираемый зуб. Я выпрастываю руки из кокона, привстаю и отодвигаю занавеску.
Воздух свеж и чудесен и пахнет пряностями – воришка, стащивший запахи тимьяна, базилика и кардамона с близкого рынка. Он вонзается в меня, подобно клинку, и мои легкие немедленно рвутся наружу надрывным кашлем. Я знал, что этим кончится, но что ж теперь – не дышать вовсе? Одной рукой я придерживаю грудь, чтобы не лопнула раньше времени, другой – бумажную салфетку, чтобы не заляпать все вокруг. Салфетка краснеет то ли от стыда, то ли от возмущения, но мне дела нет до ее чувств. Приступ проходит. Теперь можно попробовать осторожный вдох – помалу, помалу, чтобы заново не разбудить зверя… вот так… вот так…
Утирая выступившие от напряжения слезы, я смотрю на мокрый асфальт мостовой и на тротуар, выложенный удивительным иерусалимским камнем, который любит менять цвет в зависимости от настроения и погоды. Золотой в солнечный полдень, он розовеет к вечеру, а сейчас, сразу после дождя, отливает желтым и коричневым. Жарко. Я сдергиваю шапку, приглаживаю волосы и натыкаюсь ладонью на кипу. За прошедшие годы она словно приросла к моей голове; наверно, теперь ее можно снять только по-индейски, вместе со скальпом. Эту кипу подарил мне кэптэн Маэр во время нашей последней встречи в одиночной камере следственной тюрьмы на Русском подворье.
– Что же ты наделал, парень? – сказал он, после того как уселся на койку рядом со мной. – Сам-то хоть понимаешь, в каком ты сейчас положении?
Я улыбнулся. Он всегда нравился мне, этот мой