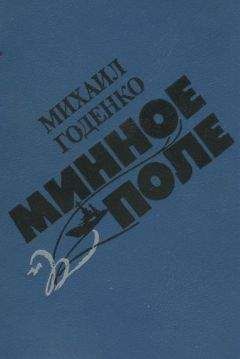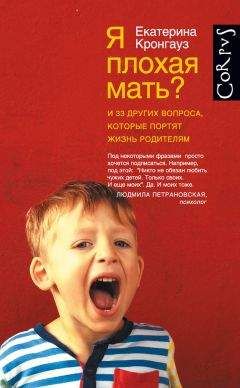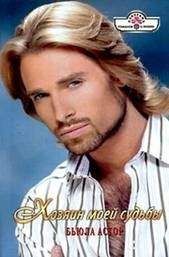Наконец-то Сан Саныч взял карандаш в руки.
— Послушайте, так не годится! Кто ваш герой? Человек, видевший «поборы да плети бояр», он заблуждается, способен пойти на крайность. Я согласен, его не следует, как марионетку, дергать за веревочку, заставлять делать угодное вам, но и сливаться с ним автору тоже не следует. Вы родились и воспитывались в ином мире, у вас иная идеология, иная психология. Почему же порой не разграничиваете его мысли со своими, его переживания со своими?
— Я чувствую его, как говорится, кожей, я страдаю вместе с ним, мне все близко... — начал оправдываться Михайло.
— Отлично! Но вы, автор, должны быть выше героя, знать больше, видеть дальше. Не следует подтягивать его уровень мышления до своего, но в то же время нельзя опускаться до его уровня. Опрощение — штука скверная! — Сан Саныч раскурил погасшую трубку, пустил успокоительно-пахучий дымок «Золотого руна». — Больше настойчивости, отбросьте скованность, считайте, что выше вас никого нет: над вами, как говорится, ни бога, ни черта, вы правите миром, от вас зависят судьбы людей!..
— Иногда приходится думать и о том, чтобы напечататься. Признаюсь, я избалован: на флоте все, что выходило из-под пера, попадало на полосу.
— Не иронизируйте над прошлым. В войну все мы делали нужное дело. Ваши стихи, как и вы сами, тоже были на службе. Сейчас происходит ломка: надо войти в мирную жизнь, освоить новые темы. Одним это удается легко, другим — труднее. Появится второе дыхание — пойдете уверенней. Вижу, оно у вас появляется.
— Работать я готов, только бы не впустую.
— Наивный человек! — Сан Саныч поднялся с кресла, подошел к полкам, показал на нижнюю, где стояло на ребре много папок. — Все пока не печаталось. И не знаю, увидит ли когда свет. Но я должен был это написать: через себя нельзя перешагивать. Да, необходимо рисковать, рисковать! Литература — занятие для смелых, робким здесь делать нечего!
Тоненькой и жалкой показалась Михайлу собственная рукопись.
Как быстро летит время! Кажется Михайлу, только вчера стоял у входа в институт и думал: «Если примут, не будет на свете человека счастливее меня!» И вот годы позади. А видел ли он счастье? Вряд ли. Возможно, и встречал его ненароком, да лица не распознал.
Сегодня творческая суббота, в какой-то мере итоговый день. Семинарское занятие вынесено в большой зал. Приглашены все преподаватели, приглашены студенты других курсов, гости. Михайло Супрун выступает вместе со своими однокурсниками. Если бы вдруг появился Станислав Шушин, он бы, наверное, сказал:
— Ну что ж, до-ро-гой мой. Я отсутствую, сам понимаешь, по уважительным причинам. Отстал. Ты вырвался вперед, в каком-то смысле стал старше меня. Значит, надо показать, чего ты стоишь, защитить честь свою и своего друга. Ни пуха ни пера!
А у Курбатова отношение к сегодняшнему событию такое:
— Творческая суббота далеко не защита диплома, не финиш. А вот к финишу я приду с изданной книгой стихов, положу ее на стол — и все ахнут.
Нико Ганев и Жора Осетинов выступили со своими стихами раньше других. Нико держался молодцом, еще бы: подпольщик, партизан! Многие стихи написаны в гестаповских застенках. Его песни поют в Болгарии. Потому зал, что называется, бушевал от восторга. Жору Осетинова встречали скромнее.
Как встретят Михайла Супруна?
Утром он съел плавленый сырок и бутерброд с маргарином, выпил вместо чая кружку холодной воды, поболтал в ней ложечкой по привычке. Помнит, во время блокада Ленинграда на флоте бытовала шутка: чтобы чай был сладким без сахара, надо провернуть ложечкой в кружке двести семьдесят пять раз. Почему избрано именно такое число, никто не знает.
Время уже было поздним, но голода Михайло не чувствовал, он заглушал его табаком, то и дело выходя на лестницу покурить.
Когда же его очередь?
Зал был набит до отказа. В среднем ряду Михайло нашел взглядом Лину и Перкусова — они пришли «поболеть» за него. Еще до начала вечера Михайло познакомил Лину со своим флотским другом, нашел им место, посадил, сам же или подпирал стенку у входа в зал, или топтался на лестничной площадке. С кем бы ни стоял, о чем бы ни говорил, мыслями все равно был там, на трибуне: «Что скажу, как скажу?»
И вот сигарета полетела в урну. Поправляя ремень, пошагал по широкому проходу к сцене. Красный стол президиума надвигался на него неумолимо, а голову сверлила единственная мысль: «Только бы добраться до трибуны, только бы взяться за ее борта, а там все пойдет хорошо!»
Лаборантка кафедры творчества начала читать рецензию, и Михайло почувствовал, как кровь прихлынула к щекам, от волнения заложило уши — ничего не слышно. Лаборантка, видимо, и в самом деле читала тихо, потому что с задних рядов донеслось:
— Громче!
Было три отзыва на поэму Михайла Супруна «Горький хлеб», и все разные. В одной признавалось, что автор «бесспорно, способный», но темой не овладел. Материал собрал богатый, есть удачные наблюдения, но в целом вещи нет. Во второй рецензии делалась, как говорят в институте, «вселенская смазь»: все отрицалось — и способность наблюдать, и способность передавать наблюдения. Главный персонаж поэмы оценивался в ней как тип весьма отрицательный, и ставился вопрос: заслуживает ли он вообще того, чтобы говорить о его судьбе?
Замечания следовало записывать, готовить на них ответы, но Михайло бездействовал: «К чему защищаться? В рукописи сказано все, что хотел сказать. И если она не нравится, значит, плохая, а плохую незачем защищать». Но вскоре наступило прояснение: «Нет, брат, так нельзя, надо драться. Ты выстрадал поэму, она тебе дорога, значит, стой на своем!»
Когда читалась третья рецензия, многие в зале, показалось, вздохнули облегченно. Ее написал Сан Саныч, руководитель семинара. Он заявил, что автор талантлив, призвал отнестись к его работе положительно.
Михайло посмотрел на Лину, удивился: какие у нее большие глаза! — словно сделал для себя открытие. Спокойно и хорошо ей улыбнулся. Перка поднял до плеча крепко сжатый кулак, как бы говоря этим: «Держись, Минька, не дрейфь, в беде не оставим, если что, свистнем — и через минуту вся Балтика будет здесь!»
Михайло прочитал поэму с подъемом. Затем началось обсуждение. Все шло по-доброму, пока не взял слово Зосима Павлович.
— Захваливание — порочный метод воспитания. В народе бытует поговорка: за одного битого двух небитых дают. У Супруна есть много недостатков. Супрун в политическом отношении не совсем зрелый человек...
Из рядов крикнули:
— Примеры!
— Клакерам не место на таком торжественном заседании. — Зосима Павлович всуе употребил это слово, видать, оно ему сейчас понравилось своей звучностью, не больше того. — Я мог бы оставить без внимания подобные реплики, но отвечу. Что идеализирует Супрун? Стихию. Кого избрал в главные герои? Отсталого крестьянина и преподнес нам его сказочное перерождение.
Михайло, которому после выступления дали место в первом ряду, не выдержал, возразил с горячностью:
— Диалектика, а не сказка!
— Насчет диалектики вам со мной не тягаться, я на этом собаку съел, да будет вам известно!
Зосима Павлович изо всех сил пытался сбить настроение зала, но Михайло настойчиво отводил эти попытки. Лина с тревожным холодком внутри следила за поединком, она впервые видела Михайла таким упрямым.
Михайло любил бывать в книжных магазинах. Он входил в них с чувством ожидания чего-то необычного. Прежде всего разглядывал новинки. Где-то глубоко в душе теплилась надежда, что и его книжка появится когда-нибудь на прилавке.
Он раскрыл сборник хорошо известного ему фронтового ленинградского поэта, стал внимательно рассматривать его портрет на второй обложке.
— Что, Балтика, завидуешь? Не томись, дружище, будет и на твоей улице праздник. — К Супруну подошел знакомый парень из университета. Толком не понять: то ли он учится там, то ли просто отирает углы. Потому его зовут не как других обитателей славного дома на Моховой: студент МГУ, а проще «парень из университета». Михайло даже не знает его фамилии, хотя знакомы не первый день. Парень приволакивает правую ногу, шагает, опираясь на суковатую, тщательно отпалитуренную палку. Когда говорит, палку перебрасывает в левую руку, а правую кладет на рано облысевшую голову. — Будет, дружище, и у тебя. Будет. Это неотвратимо. Помнишь, как в стихах: «Все мы окончимся, все мы уйдем»?
«Утешил!.. Чапал бы ты своим курсом, старая посудина», — подумал Михайло. Ему было неловко, что разгадали его потаенные мысли, будто уличили в нечистом дело. Кинул сборник на прилавок. Неприветливо заметил:
— Витийствуешь?
— Без смеху, дружище, хочется пооткровенничать. Готов терпеть? Привез уйму стихов, новых. Во стишата! — показал большой палец. — Уже успел некоторые тиснуть в газете. Чуть ли не с руками оторвали! — Он подбросил суковатый дрын, подхватил его на лету, потряс им перед самым носом собеседника. — Сила, дружище!.. Я недавно со стройки. Веришь, родной, стихи сами прут из меня. Откуда только берутся? Когда я нахожусь в Москве — пустой, ни строки, словно выдоенный, А там — повалили, как порода из ковша. Чу-де-са, дружище!