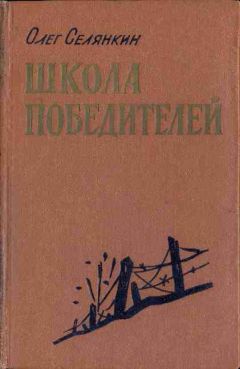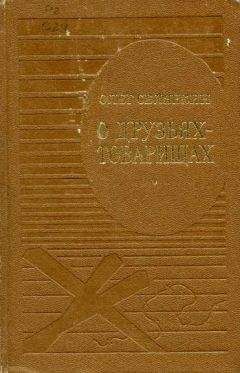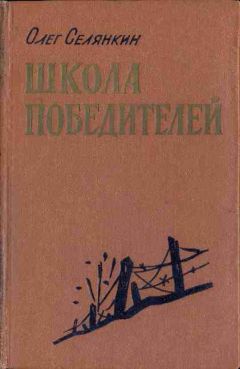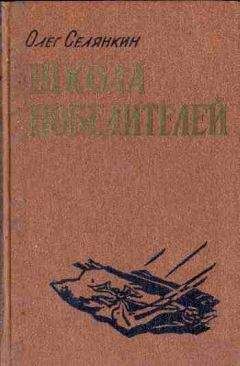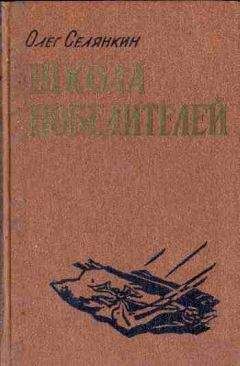— Она всегда так. Слушает, слушает, потом возьмет сынишку на руки и уйдет в другую комнату.
— Плачет?
— Не знаю…
Между лейтенантами и сестрами с первых дней установились дружеские отношения. Женщины приняли их как боевых товарищей мужа, как-то без уговоров получилось, что они взяли шефство над их гардеробом, и у Селиванова и Норкина всегда были белоснежные подворотнички и носовые платки, а складки их брюк напоминали форштевни быстроходных кораблей. Приводилось все это в порядок незаметно, очевидно, когда лейтенанты спали.
Офицеры со своей стороны оказывали сестрам помощь в несложных хозяйственных делах: кололи дрова, или выдергивали гвозди из одной стены, а затем вбивали их в другую: Дора Прокофьевна любила переставлять в квартире мебель с места на место. Характер у нее был властный, и она фактически распоряжалась и сестрой Натальей и лейтенантами.
— Вам бы, Дора Прокофьевна, полком командовать, — сказал как-то Михаил, выполняя ее очередное распоряжение.
— Думаешь, не смогла бы? Вы бы у меня только бегали!
Часто к Норкику приходило желание побывать у Кулаковых, поговорить с Леней Селивановым, но приказ направлял его катеры дальше.
А вот сегодня Михаил снова был дома, как он привык называть свою сталинградскую квартиру.
Норкин прошел в комнату. На этот раз там все было по-прежнему. Как два месяца назад, когда он ушел на траление, на столе лежало незаконченное письмо к матери.
Кровать, заправленная белым покрывалом, выглядела так, словно он встал с нее только сегодня утром.
Леня спал крепко. Из-под простыни торчали завитки его густых черных и жестких волос. Его не разбудил шум, поднятый сестрами. Он раскраснелся во сне, его губы вздрагивали.
«Пусть отдохнет», — подумал Норкин, а рука помимо воли протянулась к простыне.
Леня пробормотал что-то и перевернулся на другой бок, накрывая простыней свою голову.: — Видали его? Я прибыл на два дня, а он спит!
Норкин схватил Леню на руки и положил на холодный линолеум пола. Леня моментально согнулся калачиком и, прижав голову к плечу, попытался спрятать ее под воображаемую подушку. Потом открыл глаза.
— Мишка! — закричал он, вскакивая с пола. — Каким ветром тебя занесло? Мне сказали, что ты завяз на минных полях..
— Соскучился о тебе, прекратил траление и вот явился.
— Тогда здорово!
Немного погодя товарищи сидели вдвоем на диване. Им было о чем рассказать друг другу. Два месяца Норкин был на тралении, а Леня так и не вылезал из штаба.
— Ты бы рассказал мне новости. На тралении мы немного отстали от жизни, — попросил Норкин.
— Новости? Я сам несколько дней был на заводе и следил за изготовлением тралов, так что многого не знаю… Фашисты прорвали фронт и рвутся к Кавказу. Хотят взять Баку…
— Чье предположение?
— Местного начальства.
— А Москва что говорит?
— Москва? Москва пока молчит… Много войск собирают севернее Сталинграда.
— Зачем?
— Честное слово, не знаю. Знаю, что так нужно, а почему — хоть убей, не пойму… А тебе письмецо.
— От кого?
— От товарища Ковалевской.
— Давай, Леньчик, скорее!
— До чего любовь человека доводит, — с притворной грустью сказал Селиванов, но письмо отдал.
«Дорогой Мишук!
Поздравляю тебя с Первым мая и надеюсь, что это последний май, который мы будем встречать с тобой на войне…»
Михаил удивленно взглянул на начало письма. Леня сразу заметил растерянность на лице друга и спросил:
— Неприятности? Прочти.
— «…Поздравляю тебя с Первым мая…»
— Достаточно. Неужели понять не можешь? — засмеялся Леня. — Мишка! Спрячь письмо в карман! Хоть погуляем немного!
«…Наша бригада стала гвардейской. Мы все очень рады, и я тоже. Одно плохо — тебя нет здесь. Я скучаю, Миша! Скоро ли кончится война и мы опять будем вме-сте? После нашего зимнего наступления фашисты ведут себя спокойно и матросы поговаривают, что пора переходить на другой участок фронта, чтобы оправдать звание гвардейцев…»
Михаил прочел письмо, переодел китель, и они вышли на улицу. Солнце ослепило их. Оно отражалось от зеркальной Волги и раскрытых окон квартир. Горели позолотой медные поручни пароходов, что стояли бесконечной вереницей у переполненных грузами сталинградских причалов.
Кругом раздавались гудки грузовиков и паровозов, изредка доносились глубокие вздохи заводов и струйки дыма поднимались к безоблачному, бледно-голубому небу.
Маленькие буксирные пароходики тащили куда-то громоздкие неуклюжие баржи; гордо проплывали мимо города пассажирские пароходы, сверкая окнами салонов; бронзовые от загара мальчишки устремлялись с берега им навстречу, и на волнах покачивались их стриженные под «нуль» черные и белые головы.
Незаметно пролетел день. Друзья сходили в кино, на стадион, прошлись по городу и сели отдохнуть в скверике напротив Дворца пионеров. Они устали, хотелось есть, но так хорош был город в этот тихий вечерний час!
Набережная полна гуляющих, ветерок с Волги приятно освежает разгоряченную кожу, и в воздухе струится тонкий аромат табака, который распустил свои бутоны на клумбе, раскинувшейся возле скамейки, где сидели друзья.
Кажется, нет войны! Но это только кажется: двое раненых сидят в госпитальных халатах, а позади них, разрезая клумбу, темнеет щель. Уродливым зигзагом она пересекает еще несколько клумб и теряется в зарослях табака, гвоздики, георгинов и других цветов. В кустах акации притаились зенитные пушки. Девушка в пилотке, сдвинутой на правую бровь, медленно ходит между ними и время от времени подносит к глазам бинокль, висящий у нее на шее. Дыхание войны чувствуется и здесь. Она рядом. Норкину взгрустнулось. Письмо от Ольги лежало у него в нагрудном кармане кителя и словно излучало какое-то тепло. И Михаилу так захотелось, чтобы она сама была здесь, сидела рядом с ним на этой же скамейке, что он вздохнул, откинулся на спинку скамейки и закрыл глаза. Ольга, как наяву, встала перед ним. Он видел даже ее чуть влажные зубы, золотой волосок колечком…
— Я, Миша, прошусь на корабли. Как ты смотришь на такое дело?
— Отрицательно. У начальства хлопот и без тебя хватает. Наверняка не переведут.
— Уже перевели! Назначили командиром отряда тральщиков, завтра перебираюсь на катера!
— А если перевели, то зачем у меня совета спрашиваешь? — немного обиделся Норкин.
— Так просто… Прямо-то похвастаться было неудобно. Друзья взглянули друг на друга и рассмеялись.
— Смотрите, смотрите, сколько самолетов летит! — крикнул кто-то позади Норкина.
Самолеты шли над левым берегом Волги, по восточной части неба. Их было несколько десятков.
Над Сталинградом часто пролетали краснозвездные самолеты, и сейчас все гуляющие с радостным оживлением на лицах вглядывались в сверкающее, белесое от зноя небо, силясь разглядеть чуть темнеющие точки.
— Ух, и дадут фашистам! — крикнул мальчишка, промчавшийся мимо на роликовых коньках.
В неясно обозначившихся силуэтах самолетов было что-то знакомое, и Норкин с тревогой вглядывался в их очертания. Вот один самолет немного изменил направление полета, и тогда стали отчетливо видны выступающие вперед моторы. Самолеты напоминали хищных птиц, выпустивших когти. Теперь уже не было сомнения, что к городу приближались «Юнкерсы».
Норкин не успел еще сообщить Лене свою догадку, как в городе завыли сирены, загудели заводы и паровозы, и из громкоговорителя донеслись слова:
— Внимание, внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Набережная мгновенно опустела: люди скрылись в щелях или заняли места на постах местной противовоздушной обороны.
Тревожно гудели у причалов пароходы. Торопливо, захлебываясь, затакали «Максимы», на боевых нотах включились в общий хор крупнокалиберные пулеметы и, заглушая все, ударили пушки. Небо покрылось черными и белыми облачками разрывов. Между ними метеорами мелькали трассирующие пули.
А самолеты шли и шли…
— Бежим? — Леня вопросительно посмотрел на Норкина. Тот отрицательно покачал головой.
Бежать не было смысла. Самолеты уже находились над серединой Волги. Вдруг от них отделились черные точки. Секунду они летели под самолетами, а затем устремились к земле. Воздух наполнился холодящим кровь воем, грохотом разрывов и свистом осколков.
Норкин по звуку определил, что бомбы упадут далеко от них, и остался сидеть на скамейке.
Спустя минуту, когда еще не осела пыль, взметнувшаяся к небу, по пустынным улицам, оглашая их звоном колоколов и воем сирен, пронеслись пожарные машины и кареты «скорой помощи».
На железнодорожных путях, около причалов, загорелись вагоны. Из щели, что проходила почти у самой насыпи, выскочил мужчина в белой рубашке с засученными по локоть рукавами. За ним другой в майке с голубой полоской динамовца на груди, женщина в зеленом платье, потом еще, еще и скоро люди облепили горящие вагоны, отцепили их от состава и оттащили в сторону. Белая рубашка мужчины стала черной.