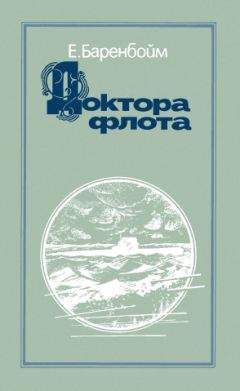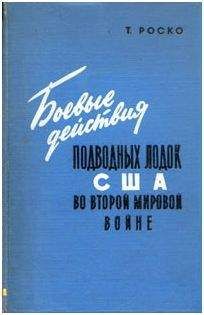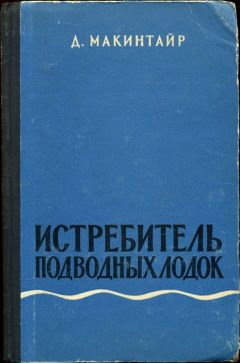— Если интеллигентный человек хочет спокойно работать, а не бороться с ветряными мельницами, он должен приспособиться к жизни такой, какая она есть, — излагал майор свои реакционные взгляды.
Я хотел возразить, что не к жизни надо приспосабливаться, как это делают обыватели, а самому перестраивать жизнь так, чтобы она была удобной для человека, но воздержался, иначе спор мог затянуться до ужина.
Когда он уехал, я подумал, что тысячу раз был прав Салтыков-Щедрин, когда писал, что самая приятная пыль — это пыль из-под колес уезжающего начальника.
В ту ночь Миша лег поздно. Читал при коптилке, приткнув книгу почти к самым глазам, пока из них от усталости не потекли слезы. Рядом сильно храпел санитар. Было такое ощущение, что пилит тонкие бревна циркулярная пила. Уснуть было невозможно. Миша толкнул санитара в плечо, тот сел на нары, пробормотал:
— Сон дурной приснился. Немец за шею душил.
Наконец Миша уснул. Проснулся он минут через сорок от страшного шума. Кто-то изо всех сил колотил в дверь землянки ногами. Санитар соскочил с нар, как был в кальсонах и рубахе, подбежал к двери.
— Кто? — спросил он.
— Открывай быстрее, такую мать. Раненый у нас. Академик на месте?
Академик — это он, Миша.
«Все, началось», — подумал Миша, чувствуя, как по телу разливается холодок. В глубине души он надеялся, что за оставшуюся до конца практики неделю в дивизионе ему так и не придется иметь дело с серьезными больными или ранеными. Кроме общей терапии и хирургии, клинических предметов они не проходили. Вряд ли он по-настоящему сумеет помочь раненому, а вот опозориться перед офицерами и матросами и опозорить Академию сумеет наверняка. Но теперь избежать позора не удастся. Судя по возбужденным голосам за дверью, раненый там тяжелый. Иначе они не стали бы так колотить ногами. Посоветоваться не с кем. Госпиталь далеко. А полковой медпункт на полуострове Среднем.
Санитар распахнул дверь. Морозный воздух ударил в лицо. Ворвавшийся ветер мигом сдул со стола пустые миски, лежавшие на нем журналы.
Раненого, которого несли матросы, Миша узнал сразу. Им оказался тот самый усатый здоровяк, который неделю назад жаловался, что «крутит ноги» и которому он по ошибке дал не те порошки. Сейчас «усач» лежал на носилках, покрытый сверху шинелями, и часто и хрипло дышал. Лицо и губы его под пшеничными усами были бледны, закрыты.
— Корнилов! — позвал Миша и легонько похлопал его по щекам.
Раненый не отвечал. Он был без сознания. Матросы рассказали, что этой ночью старшина первой статьи Корнилов и матрос Гумаченко из разведвзвода были отправлены в расположение врага за «языком». Едва они миновали проход в проволочных заграждениях и проползли метров триста, позади разорвался шальной снаряд. Корнилов обернулся и увидел, что напарник лежит без движения.
— Гумаченко! — позвал он. — Микола!
Но напарник не отвечал, он был мертв. Корнилов решил идти за «языком» один. Маленький, похожий на подростка, безоружный немецкий солдат вылез из окопа по нужде и отошел на несколько шагов в сторону. Именно здесь, около чахлой северной березки, Корнилов нанес ему удар по голове кулаком, и немец сразу потерял сознание. Он очнулся через несколько минут и увидел у груди автомат, послушно открыл рот, в который русский вставил кляп, услышал повелительный шепот:
— Форвертс! Шнель! Шнель!
Голова солдата соображала плохо, но он послушно пополз вперед. Так — немецкий солдат впереди, Корнилов позади, — периодически пережидая и замирая, пока не погаснет осветительная ракета, они приближались к нашей линии окопов. В этот момент Корнилов почувствовал резкую боль в ноге, словно кто-то рубанул по ней топором. Потом по пятке потекло горячее и липкое. Он сделал знак немцу остановиться, а сам сел и осмотрел раненую ногу. Острый осколок мины отсек половину левой стопы. Она держалась лишь на коже. Из раны струей хлестала кровь. Остывая на морозе, она пахла тошнотно и приторно. Корнилов достал из кармана брюк кусок веревки, припасенный на случай, если придется связать раненого, и туго перетянул ногу выше голенища сапога. Теперь кровь не била струей, а текла тоненьким ручейком. Странно, но сильной боли не было. Корнилов с трудом стянул перебитый сапог. Когда прибинтовывал оторванную половину стопы, голова кружилась, к груди подступала дурнота. Он дал знак немцу ползти дальше. Вскоре они увидели перед собой линию наших окопов. Небо уже посерело, проступили очертания замаскированных позиций, фигуры часовых. Будь до окопов метров на сто дальше, Корнилов бы не дополз. Силы были на исходе. Глаза застилала мутная пелена. Временами он не видел ползущего впереди немца и тогда повелительно кричал ему:
— Форвертс, гнида!
В траншее разведчиков встречал лейтенант, командир разведвзвода. Корнилов успел рассказать, что с ним произошло, увидел, как увели в землянку немца, наклонился к протянутой лейтенантом фляге с водкой и потерял сознание.
По характеру раны, неумело наложенному жгуту, по необычайной бледности больного было очевидно, что разведчик потерял много крови и ему необходимо срочное переливание. Но, во-первых, переливание крови они еще не проходили и Миша не знал, как оно делается, а во-вторых, ничего нужного для переливания в санчасти дивизиона не было. Миша понимал, что единственное, возможное в этих условиях, — попытаться вывести раненого из бессознательного состояния и срочно отправить в госпиталь.
Необычайное волнение, охватившее его в первые минуты, когда раненого внесли в санчасть, стало постепенно проходить. Мысль работала четко и ясно. Недавние опасения, что он опозорит себя и Академию, показались ничтожными, смешными. Главное сейчас помочь больному. Даже лентяй санитар, называвший его «Мыша», способный спать шестнадцать часов в сутки, преобразился и быстро выполнял все распоряжения. На примус поставили кастрюлю с водой, положили в нее кипятить шприц. Когда нагрелась вода, обложили раненого грелками и бутылками с горячей водой. Миша ввел ему морфий.
Не зря ребята говорили, что у Бластопора великолепная память. Стоило немного сосредоточиться, и он вспомнил все, слово в слово, что говорил Мызников на лекции о первой помощи при кровопотере.
— Гляди, Мыша, вроде получше ему! — радостно воскликнул санитар.
Действительно, губы раненого порозовели и он задышал ровнее. Вернулся лейтенант, разведчик. Ему удалось раздобыть подводу. На ней предстояло проехать до госпиталя четырнадцать километров по разбитой грунтовой дороге. Это два часа пути, не меньше. Перед отъездом следовало осторожно снять жгут и хорошенько забинтовать ступню.
— Надо же, как раз в ногу угодил, — сказал лейтенант, вероятно, имея в виду осколок, и отвернулся в сторону, чтобы не видеть раны. — Такой плясун был Федька. Бывало, как «цыганочку» начнет, никто не устоит. Поверишь, ноги сами в пляс идут. — Он вздохнул, засопел, и Миша увидел, что лейтенант белобрыс, худ и по виду совсем мальчик.
— Ты смотри, курсант, кусок ноги, что болтается, не вздумай отрезать, — строго сказал он, видя, что Миша берет ножницы. — Может, в госпитале врачи пришьют. Я в медицину верю.
— Вряд ли, — ответил Миша. — Оборван весь сосудисто-нервный пучок.
Вместе с лейтенантом, санитаром и еще одним разведчиком они осторожно перенесли раненого на подводу, лейтенант взял вожжи, и повозка тронулась.
Они проехали километров пять, не больше, когда Корнилов умер. Сначала Миша почувствовал, как и без того слабый пульс под его рукой еще больше ослабел, лицо раненого снова покрыла мертвенная бледность. Тогда он торопливо ввел ему под кожу кофеин с камфорой, влил в рот глоток водки. Это было все, что он мог сделать. Они накрыли мертвого с головой и повернули обратно.
Потом Миша видел много разных смертей. Его пациенты умирали в госпитале, где он работал, умирали дома. Но смерть его первого пациента потрясла Мишу. Корнилов был молод, моложе его на год. Если бы ему вовремя оказали помощь, он бы, конечно, остался жив, ну, может быть, немного хромал, носил специальную обувь. И хотя Миша понимал, что он лишь курсант третьего курса и не виноват в смерти раненого, ему казалось, что лейтенант молчит потому, что презирает его. Наконец он не выдержал и спросил:
— Вы презираете меня, товарищ лейтенант?
Лейтенант рассеянно посмотрел на Мишу.
— Что? — спросил он. — Презираю? Я о Федьке думаю. Замечательный был разведчик, страха совсем не имел, в самое пекло лез, считал, что заговоренный. — Вдали показались землянки дивизиона. — Зайдем, курсант, выпьем по чарке на помин души, — предложил лейтенант. — Понимаешь, горит все внутри, жжет, как огнем.
Из письма Миши Зайцева к себе.
1 декабря 1943 года.
Вчера утром на катере я пришел на полуостров Средний. Сегодня закончатся сборы медицинского состава и я уеду. Уже есть приказ об окончании практики. Здесь, на Среднем, совсем другая жизнь — электричество, магазин, клуб и даже девушки, хоть и единичные, как лейкоциты в нормальной моче. В письмах моих масса чепухи, второстепенных событий и мыслей. Но утешаюсь тем, что в них все чистая правда. Опишу свои терзания души и тела. Вероятно, вся жизнь состоит из этих терзаний и прав был Фрейд, что в молодости влечение полов друг к другу часто сильнее всех других желаний. Иначе, как можно объяснить, что я, горячо любя Тосю, мог совершить вчера такое, о чем сегодня стыдно вспомнить? Но опишу все по порядку.