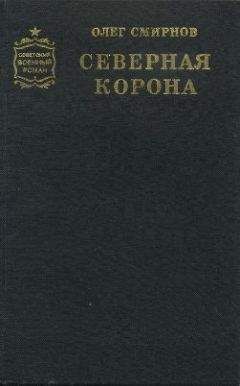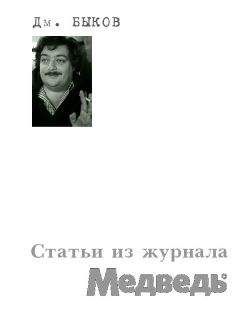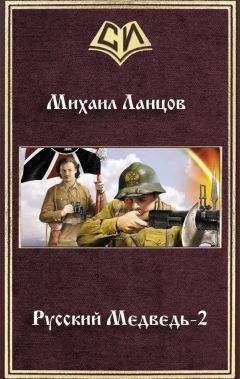В вечерней темноте батальон снялся и закружил по фронтовым дорогам. Непроглядно, сыро, тревожно, стрельба и приближалась, и удалялась. Говорили, что соседи продвинулись километров на десять, дивизию будут вводить в бой, сменив ту, что прорывала оборону. Когда — никто не знал.
Далеко за полночь — ночевка. Прямо в лесу, на снегу. Нарубили лапника на подстилки, расчистили от снега площадку, навалили сухостоя, подпалили мох и газеты, и заплясали огненные языки — всяк норовил лечь к пламени поближе и спиной.
Конечно, с воздуха костры могли засечь. Но и замерзать без них негоже, обморозиться можно. И, состряпав над ними шалашики, костры жгли и жгли, высвечивая еловые ветки с сосульками понизу.
Тучи рассеялись, луна — приплюснутая, отбеленная — карабкалась на лесные верхушки, чертила над оврагом тени от стволов. Под деревьями, у костров, вповалку лежали бойцы, и Сергей шагал меж ними, у одного поправив вещмешок под головой, второго прикрыв полою шинели.
Кто дышал ровно, кто прерывисто, кто кряхтел, кто бормотал во сне. Сергей разглядывал лица — неясные, темные в тени, бледные, будто неживые, в лунном свете, красные в отблесках костра.
Он отошел к сосне, сел на кочку, привалившись спиной к стволу. Потрескивал костер, шуршали ветки. Лунное сияние все ярче и холодней.
* * *
Раненые умирают на рассвете?
Помигала и загасла синяя ночная лампочка под потолком, прямоугольник окна светлел, наливался розовым, на карниз вскочил воробей, чирикнул побудку, о стекло поскреблась ветка в снегу, а Василий Наймушин был еще жив. В оконном проеме березовая ветка, за ней обгорелый угол дома — это Смоленск, город, в который он мечтал вступить победителем.
— Пить…
Дверь приоткрылась, в палату просунулась старуха сестра, сухонькая, в родинках и бородавках, скорее испуганная, чем озабоченная: «Все мается, сердешный, никак не помрет».
Пока сестра, звякая стаканом о графин, наливала воду, Наймушин вновь впал в забытье. Сестра держала стакап, глядела на прикрытое серым госпитальным одеялом тело, на втянутые, заросшие щетиной щеки: «Не сдается смерти, сердешный, не хочет отходить. Третий день мается».
Мается? А может быть, видится сейчас Василию Наймушину, лежащему в «боковушке» — палате, куда помещают безнадежных раненых, — город Анапа, а впереди — открытое море. И курортная девочка с бантом, оттопырив губы, всем существом презирая замызганного беспризорника, скачет на одной ножке по прибрежному песку среди выброшенных прибоем медуз и гниющих водорослей — пахнет йодом, как пахнет йодом! Или первое утро войны, замкнувшееся, залитое черной, венозной кровью лицо старшины Рукавишникова, застава в огне, огнем захлестнут и он, лейтенант Наймушин. — грудь жжет, как жжет! А может, словно предвечерний туман, поднимается воспоминание: ветки стегают по комбатовской палатке, кровать с железной спинкой и рядом с ним — Наташа, вот ее плечо, вот ее волосы. Или иное: низкий потолок трибунальского блиндажа, кажется, он все опускается, давит на плечи, ломает кости, и никогда не выйти наверх бывшему капитану Наймушину — без пояса, стрижен под машинку. Или: ползущие в межболотье танки, проутюженные окопы штрафников, гранатные взрывы под траками, провонявшее дымом и маслом танковое днище над головой — нечем дышать, немного — и задохнешься… Мало ли что хранится в памяти Василия Наймушина?
Сестра взяла его руку: теплая, да пульс-то где? И сестра, шаркая шлепанцами, — к дежурному врачу.
Пришел врач, успокоил: пульс есть. Он присел на стул, опустив плечи. Дежурство к концу, но что за дежурство! А все из-за Гребешкова, провозился с ним в другом изоляторе полночи. Вообще этого солдата судьба словно нарочно подсовывает. С год назад он, еще в медсанбате был, оперировал Гребешкова, и довольно любопытно: в левой голени, в пробитой обмотке, — неразорвавшаяся мина. Поставил Гребешкова на ноги, через год привозят сюда, в госпиталь: большая потеря крови, газовая гангрена, взгляд тусклый, губы сухие, пульс то появится, то исчезнет. Вторично поставил на ноги. И вот вчера — письмо от жены: сообщает, что вышла замуж за другого. Гребешков посрывал с себя бинты, упал с кровати, забился головой об пол. И теперь — в изоляторе, чего доброго, помрет. Жить не хочет. А Наймушин хочет жить, борется со смертью.
Хирург сказал сестре: «Посидите с Наймушиным», вышел в коридор, по пути в курилку бросил в рот папиросу. В курилке двое раненых балагурили.
— У тебя правая лапа поранена? А у меня левая. Давай меняться левыми лапами!
— Хитер, шизохреник! Давай махнем правыми!
Врач сказал:
— Натощак табачите?
— Как вы, товарищ подполковник медицинской службы!
— Это вредно, — сказал врач и с жадностью затянулся.
В этот час, когда Висилий Наймушин метался в «боковушке», его батальон был на марше. Мгла редела, расползалась, как сгнившая материя, звезды меркли, будто растворялись, небеса на востоке блекли, желтели. Отдаленная артиллерийская стрельба, в окрестных же лесах тихо. Веточка не шелохнется, и Сергей Пахомцев пожалел: нет ветра, как славно было б сейчас ощутить кожей одновременно и упругую и мягкую струю морозного воздуха, испить бодрящей, колющей свежести. Но бодрость и так есть — в каждой мышце, в каждой клеточке. Бодрость есть, сила есть, есть жажда жить!
Сергей шагал, пружиня, впереди взвода и думал: «Смоленская земля пройдена, вот уже белорусская. Дальше — польская, а там недалеко и до немецкой… До победы недалеко!»
Весело поправил себя: до победы, конечно, далековато, дожить нужно. И доживем, черт подери! Ведь наступит же он когда-нибудь, этот выстраданный, долгожданный, невероятно счастливый день победы!
Большак прямился по полю, изреженно обсаженный вязами — пожившие, дуплистые, они наклонились в сторону от дороги, падали навзничь и все не могли упасть. По обочинам — расщепленные телефонные столбы, уцелевшие дощечки — «Minen», дубравы с посеченными стволами, пнистые опушки — пеньки со снеговыми наростами как противотанковые надолбы, — березовые рощи в колониях грачиных гнезд. В тумане смрадно чадил овин, туман стлался по низинам. Облачко — белый медведь — пятилось к темной туче, словно к берлоге.
Звезды уже совсем сошли, но Сергею казалось, что он еще различает их точки-светляки. Сколько звезд! И из этого множества надо выбрать одну — на счастье.
За спиной — солдатский шаг, бряцанье, кашель, обрывки разговоров:
— С какой стати выхваляться? Я не выхваляюсь, а с первой пули уложил — это достоверно…
— Махорку старшина сулил привезть…
— Гриня, притомился? Взбодрись, Гриня, на запад, чай, топаем.
— Любливал я в гражданке с удочкой наедине…
Медведь на небе превращается в футболиста с нацеленной для удара ногой (мяч рядом — кусочек облака), и футболист уже не белый, а розовый: всходит солнце, перится лучами.
Нужно бы обернуться и скомандовать: «Отставить разговорчики!», но Сергей не оборачивается, прислушивается.
— Я ему выдал: «Слушай-послушай, за кого меня принимаешь? Я из Средней Азии, но я не ишак!»
Говорит гортанно, с акцентом — это Абдулаханов, узбек. А был узбек — сержант Сабиров.
— Чегой-то, друзья-товарищи, подрубать охота, посасывает под ложечкой.
Голос могучий. Это Варфоломеев, пулеметчик, второй номер, высокий, метр девяносто. А вспоминается — гигант Журавлев.
— Кхм, не пишет? Плюньте на нее. Залезьте на дерево повыше и плюньте. После войны на каждого мужчину будет по три женщины. А вы переживаете, нервничаете.
Покойный, рассудительный — Башулин? Рассудительным был и Рубинчик, Александр Абрамович Рубинчик.
— Для поднятия настроения, братцы, подкину историю. Провалиться, если брешу!.. Бухие спорят: «Чай без сахара хуже!» — «Нет, чай с сахаром лучше!» — «Без сахара хуже!» — «С сахаром лучше!» Спорили, спорили и передрались. Ну, во время драки малость протрезвели, помирились, решили: заместо чая опять водки выпить!
Ласковый, хитрый тенорок. Наверное, ухмыляется, рассказывая. Конечно, Семенов. А на память приходит Пощалыгин.
Затарахтела бричка, с нее сполз, как свалился, почтальон Петрович — тощий, сумка — толстая, набитая газетами и письмами. Сергей протянул ему руку:
— Живы, Петрович?
— Живой, живой.
Расстегивая сумку и обнажая в улыбке бескровные десны, проковылял в строй, на ходу стал раздавать письма. Под конец вручил треугольничек Сергею:
— А это вам, товарищ младший лейтенант. Из Краснодара. От Наталии!
И подмигнул линялым стариковским оком.
— Спасибо, — пробормотал Сергей и в смущенном, счастливом нетерпении развернул письмо: «Мой единственный, мой Сережа!»
Он перечитал эту фразу. Единственный! «Да, и ты у меня одна на всю жизнь. Слышишь меня, Наташа? Что бы ни случилось — одна».
— Прива-ал! Прива-ал!
Сергей остановился, вместе с бойцами перепрыгнул через канаву, выбирая, где бы присесть. Место голое, ни пенька. Чуть подальше — ольха, необлетевшие листья на сломанной ветке — как забуревшая перевязка; за ольхой — кусты рябины с манящими рделыми ягодами. Все направились туда.