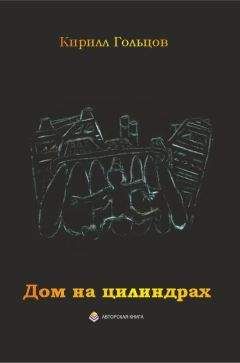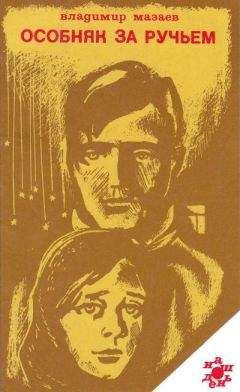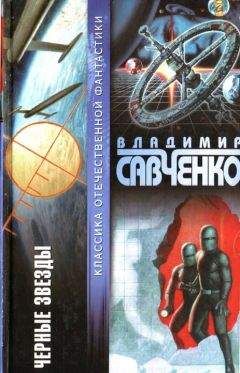Осунувшиеся, темные от морозных и знойных ветров лица. Усталые кони со стертыми копытами. Старые трехлинейки с побелевшими стволами. Считанные сухари и считанные патроны в сумках. И непрерывные тревоги, погони, схватки, в которых не просят пощады, — классовая война милосердия не знает. У тех, кто ушел тогда за кордон с руками по локоть в крови, ничего не оставалось за душой, кроме ненависти, им нечего было терять, этим волкам в человеческом образе. Но бессильны были их наглые стаи, как и отряды чужеземных провокаторов, банды хунхузов, скупщиков золота и пушнины, спиртоносов, воров скота и леса, шпионов и браконьеров, против тоненькой цепи буденновских шлемов, прикрывших дальневосточную границу Республики. И один из двух тысяч первых ее солдат — краской Дагаев.
Такое простое русское лицо на старенькой семейной фотографии, а приглядись — сверкающая дымка ореола будто окружает его остроконечный шлем. Сама история страны смотрит с фотографии глазами двадцатилетнего парня в буденовке… А рядом — она же глядит из-под зеленой фуражки другими, очень похожими глазами бывшего старшины пограничной заставы. Стоял на здешней границе сын краскома Дагаева и в иную тяжкую пору, когда тучами нависали над нею самурайские армии. Ходил в наряды и секреты, стиснув зубы, потому что лежала в кармане его бумажка, где коротко сообщалось, что батальонный комиссар Дагаев смертью храбрых погиб под Смоленском, поднимая в атаку стрелковые роты, а на рапорте старшины Дагаева с просьбой послать его на фронт, чтобы мог отомстить за отца, начальник отряда коротко написал: «Отказать! Здесь тоже фронт!» Старшина Дагаев видел это и сам, когда по тревогам поднимал заставу и стоял в траншее у пулемета, следя, как самурайские цепи под прикрытием танков надвигаются на границу, и не знаешь — то ли это очередная провокация, то ли начало войны здесь, на востоке? Он стискивал зубы, когда по заставе стреляли, провоцируя на ответный огонь.
И снова стискивал зубы, слыша, как с чужой стороны, издевательски хохоча, кричат в усилители: «Москва — скоро нету борсевика!», «Сталинграда — нету борсевика!», «Скоро нигде нету борсевика!», «Ходи к нама — нынсе прёхо борсевика!»…
Зато какими радостными были для него часы торжества, когда выстрелы врагов смолкали, потому что и в Москве, и в Сталинграде оставались большевики, а русские снега заметали останки разгромленных армий Гитлера. Он снова писал рапорты, завидуя тем, кто гнал фашистов по полям Украины, Польши и Германии, и боялся одного: счет его мести врагу останется не открытым… Последний рапорт получил ход, и старшина заставы Дагаев возглавил взвод полковой разведки, сформированный из пограничников его родной заставы. Им не нужна была осо бая подготовка — пограничник тот же разведчик, да и бойцы Дагаева превосходно знали этот край и повадки врага. Впереди танковых колонн вел своих разведчиков старшина Дагаев через перевалы Малого Хингана, лесистые лабиринты Восточно-Маньчжурских гор и лессовые болота в пойме Сунгари, прорывая самурайские засады и укрепрайоны, не страшась мин и коварных выстрелов самурайских смертников. Сын краскома Дагаева стоил своего отца.
…Что бы сказали они, те двое Дагаевых, о своем внуке и сыне, который на учении, едва задев «противника», отскочил, заблудился в метели меж двух сосен и засел в тихом закутке, поджидая погоды, грустя о далекой зазнобе, казнясь, что оставил где-то половину своих солдат, и не знает, как их найти? Что бы они сказали?..
Дагаев сейчас, пожалуй, думал о себе несправедливо, но, когда тревожат тени героев, все, что сделал человек, кажется ему ничтожным, и он ищет работы, которая потребует его силы без остатка.
Коротко глянул на часы, разогнулся над догорающим пламенем:
— Так вот, «противник» о нас небось забывать начал. Пора о себе напомнить…
Вместе с решимостью к нему пришло и прозрение. Теперь он знал, куда девалась скала. Нет, ее не разрушило и не унесло ураганом. Может быть, не двадцать шагов до нее от леса, как показалось днем, а все сто. Не промерял ведь, а горный воздух и чистейший снег ох как скрадывают расстояние! И не темная теперь скала со стороны леса — она белая, потому что облеплена влажным снегом! В таком киселе в трех шагах пройдешь — не заметишь.
— Вот, ей-богу, ноги не гнутся, товарищ лейтенант, — вздохнул Воронов.
— В двадцать третьем году, — негромко заговорил Дагаев, — недалеко от здешних мест двое пограничников шесть часов вели бой с вооруженными контрабандистами, которые везли груз на сорока подводах. И заставили нарушителей бросить оружие. Оба к тому времени были ранены, но все же доставили обоз на заставу. У них, между прочим, тоже были обыкновенные руки и ноги, но, видно, было и еще что-то…
Брегвадзе вскочил:
— Зачем его слушать, товарищ лейтенант! Он же все нарочно говорит. Хороший парень, а говорит много, когда молчать надо.
— А ты нервный, Датико. — Воронов с усмешкой покачал головой. — Мое ворчанье легче молчанья. Однажды мой знакомый, йог-любитель, с женой на пару молчали две недели подряд. Кончилось тем, что обоих «скорая помощь» увезла. Так уж я предпочитаю высказываться. Пошли, что ли. раз командир ведет…
Под ветер скользили быстро, и когда в разрывах метели возник лесистый склон, Дагаев поднес к лицу компас, дал успокоиться стрелке. Казалось, горный кряж, тянувшийся строго с запада на восток, теперь сдвинули с места. Постучал по стеклу компаса, усмехнулся: «Что, брат, и у тебя нынче тревога — вон как стрелку увело магнитной бурей, словно сердце влюбленного лейтенанта. С этими мариями только держись. Зато не закиснешь»…
* * *
Он вывел группу к той самой гриве, где лежали в снегу, подкарауливая «противника», развернул в маленькую цепочку. Сквозь метель на дороге смутно мерцали автомобильные фары — «противник» сейчас не опасался наблюдения. Охраны у дефиле не было — здесь, конечно, не ждали, что разведчики так скоро после боя появятся снова. На это и рассчитывал Дагаев. Он спокойно пропустил хозяйственные машины, пересчитав их и отметив, что идут, вероятно, тылы полка, резко поднял автомат, когда сквозь вьюгу, едва озаренный фарами идущей следом машины, проглянул силуэт горючевоза. За ним возник другой, третий… Цель стоила риска и жертв. Машины одна за другой тяжело вползали в дефиле, и он ударил вслед головной. Сразу застучали еще два автомата, грохот взрыв-пакетов заглушил их, колонна горючевозов остановилась, и впереди ее, на снегу, поднялось высокое пламя, выстелилось под ветром, затрепетало, озаряя лес холодноватым красным светом, и Дагаев разглядел там фигуру человека, вызывающе спокойную в начавшейся суматохе. «Посредник!.. Зачтутся труды наши…» Скоро в середине колонны вспыхнул на снегу второй красноватый костер, и тогда лишь нагремели ответные выстрелы; Дагаев скомандовал отход, продолжая бить наугад по замыкающим машинам, погасившим фары.
Прокладывая путь отхода, он не оглядывался — сосед дышал в затылок, и вся группа должна идти плотно. Контрольную остановку сделал, свернув ближе к опушке, и Брегвадзе, подкатившись вплотную, возбужденно заговорил:
— Дальше надо уходить, товарищ лейтенант. Дотопят — бить будут, горючку мы им пожгли. Чем воевать будут?
— Не догонят, — успокоил Дагаев, думая о том, что если мотострелковая рота не выслала за ними погоню, то-уж тыловики не вышлют тем более, да еще в пургу.
Появился Нехай, чуть позже — Денисов. Воронова не было.
— Он шел вслед за вами, — доложил ефрейтор Дагаеву. — Я прикрывал отход, видел — все отошли….
Тревожное чувство шевельнулось в груди лейтенанта. Мало ли что может случиться с человеком в ночном метельном лесу, особенно когда он выходит из боя!.. Снегопад затихал. Ветер еще нес мелкую крупку, она прорывала строй деревьев, и с ветвей тоже пуржило, но смутный лунный свет уже проникал в лес, различались стволы деревьев, за ними белели полянки, однако там, где терялась лыжня, никто не появлялся. В ветре почудился Дагаеву далекий крик совы… вот еще… и еще… Минута тишины — и снова три протяжных, печальных крика. «Сигнал Амурко?..» Дагаев приказал Денисову включить радиостанцию — он передал ее ефрейтору после первого боя, — тот вызвал сержанта, но ответа не было… Нагрудная радиостанция действовала на несколько сот метров, однако и совиный крик на шквальном ветру недалеко слышен. Померещилось…
— Ефрейтор! Останетесь за старшего. Отсюда — ни шагу. Я пойду навстречу Воронову.
Из письма Федора Дагаева
«…Мне кажется, брат, при желании всякого человека понять и разглядеть можно. Граница меня в том убедила. Наверное, это справедливо, что все мы из одного теста. Дело лишь в том, на чем оно замешано и насколько круто замешано…
И выходит, брат, у Иванушкина-то и дух, и стойкость оказались покрепче, чем у иного атлета. Я понял, почему он на всякое трудное дело вызывался: ему доказать хотелось — прежде всего себе доказать, что может равняться с сильнейшими. Не высовывайся он из общей шеренги, служи тихонько — был бы середнячок из середнячков, с которого много не спросишь. А враг-то спросит при случае по высшему счету — вот что он интуитивно, может быть, понимал, вот к чему готовил себя… (Да, представь, он все-таки прыгнул через коня!)