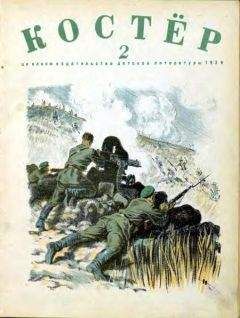— Ты знаешь, что Славка тоже погиб? — спросил Кедубец.
— Нет. Мы расстались, когда его и Николая отозвали на флот.
— Колька вернулся в наш дивизион, а Славка попал на тралец. На тральце и погиб. Подорвались на мине, потом самолеты…
— А Николай?
— Жив, — ответил Кедубец. — Демобилизовался. В Москве сейчас. Студент.
— Леня! — предложил Миша. — У тебя же есть Колькин адрес, давай напишем ему письмо? О демобилизации спросим, юнга что-то нацарапает, это ж идея!
Мы садимся писать письмо.
«Студенту от флота наш привет! Прими, Коля, поклон от старых своих товарищей. Мы с Мишкой все еще служим, но об этом потом. Сначала хочется узнать, как ты там, привык к гражданской жизни? Трудно вспоминать науки? Я так все забыл к едрене-фене».
— Ты про юнгу напиши, — подсказывает Михаил Леониду.
— Подожди, — отмахивается Леня.
«Теперь о себе. Гоняли нас с Мишкой с коробки на коробку все то время, что выписались мы из госпиталя. Нигде мы не прижились. Осели в экипаже. Таскаемся по базам, вкалываем, а точнее — ни черта-то мы не делаем, живем по принципу: лишь бы день прошел. И надоело все до чертиков, и менять не хочется — осталось чуть-чуть. Так складываются обстоятельства».
— Чего еще? — поворачивается Леонид к Михаилу.
— О демобилизации спроси, не слышно у них?
— Откуда? Им там до лампочки наша с тобой демобилизация, люди делом заняты.
«Вот какую новость мы тебе сообщаем. В нашей группе есть пацан, юнга. Ты должен его знать. Рвался парень на корабль, а попал к нам. Встречался с тобой на фронте. Передаю ему карандаш».
— Пишите, юноша.
О чем? Взял карандаш, слова разбежались.
«Здравствуйте, Николай, — вывел я. — Пишет вам юнга Беляков. Я сейчас на флоте. Живу хорошо. Всегда вспоминаю вас, дядю Пашу, Славу. Хотелось бы получить от вас письмо».
Я подписываю, передаю листок Михаилу.
«В общем, так, друг, — пишет Михаил. — Живем — ждем, ждем — живем. Думаю — на свой завод. Ленька решил в институт. Как там у вас, о демобилизации не слышно? Мы теперь на очереди».
Письмо складывается треугольником, завтра оно уйдет.
— Юноша, как вы попали в экипаж?
Странно прозвучал вопрос Леонида. Прозвучал так, как будто он меня впервые увидел. Будто не я это вместе с ним ворочаю ящики здесь, на базе. Мне хочется рассказать Лене все, но я спохватываюсь. Зачем? И что это изменит?
— Долгая история, — машу я рукой.
— Ворошить нет желания?
— Нет.
* * *
Ночью я почувствовал себя как в противогазе во время маршброска. Не хватало воздуха. Что-то мне снилось, что-то виделось. До тех пор пока сон и явь не перепутались, пока не заболела голова. Виделись разведчики. Яснее всех дядя Паша Сокол. Щека у нею разорвана, белеет кость. Он зажимает рану рукой, но я вижу, что он говорит, его слова обращены ко мне, понять их невозможно. Я вижу, как шевелятся губы. Шевелятся и на моих глазах начинают чернеть и застывать. И замирают.
Что он говорил мне?
Не получив ответа на этот вопрос, я просыпаюсь. Долго лежу, всматриваюсь в темноту. Веки тяжелеют, я проваливаюсь. Чувствую стесненность и духоту. Что-то засветилось. Да это же печь. Она раскаляется добела. Так раскаляется, что светлеет, светлеет, и я уже вижу бабку. Ту самую, которая выхаживала меня в землянке. Бабка плачет, крестит меня, что-то говорит. Понять ее тоже невозможно, потому что шевелятся только губы, а голоса ее мне не слышно. Я снова просыпаюсь, думаю о моем сегодняшнем положении, о том, что так дальше продолжаться не может, я должен на что-то решиться.
На что?
То ли я где-то читал, то ли мне кто-то говорил, что ложь, даже библейская, та, что во спасение, оборачивается худым прежде всего для лгущего. Не про меня ли это? Я утаил правду в анкете и теперь расплачиваюсь. Тот же писарь с экипажа строит обо мне всяческие догадки, домысливает мою биографию, твердо верит в то, что у меня было в жизни такое, о чем лучше умолчать. Переписать анкету? Дополнить ее? Разложить три года по полочкам? Но как? За три года я всех мест, где побывал, не вспомню. Куда-то ехал, бродяжничал. Как все это описать?
Вопросы, вопросы… А необходимы ответы. Их нет. Всего мне не вспомнить, а то, что вспомнится, проверить нельзя. Да и кто станет проверять? Тот майор с экипажа? К таким лучше не попадать. Такие себе не верят, где уж поверить беспризорнику, бродяге…
— Что с вами, юноша? — спрашивает утром Кедубец. — Вы надели на себя чужое, слишком бледное лицо. Вам нездоровится?
— Леня, — говорю я, — почему все сволочи вокруг?
У Лени глаза округлились от моего вопроса.
— Вы серьезно, юноша?
— Да.
— Серьезно такие вопросы походя не задают.
Он поворачивается и уходит. До обеда мы работаем. После обеда Кедубец кивает, мы уходим с ним к морю. Палит солнце. Ни дуновения. А по мне сейчас сильный шторм был бы в пору. Воспоминание о разведчиках, бессонница заставили спросить себя, а что же дальше? Таскал ящики, не мог отделаться от этого проклятого вопроса. Не находил ответа. Жизнь прожить — не поле перейти… Все у меня запуталось. Когда-то… Да, тогда же, при жизни дяди Паши Сокола, легко мне стало. Не надо было ловчить, врать, скрывать. Я открылся, и мне было легко. Но потом? КПЗ, детприемники, детдома, побеги из них, улица, дороги и снова по кругу, по кругу до самой школы юнг…
— Садись, — приглашает Кедубец.
Мы садимся на камни, молчим, потом Леня начинает говорить. Слова его жесткие, соленые, как морская вода.
— Ты сопляк, юнга, — говорит Леня. — Не хочешь говорить о себе, не надо. Не в моих правилах лапать чужие души, но каждый человек должен отвечать за свои слова. Никому не дано право обвинять людей в сволочизме, запомни это. Не за сволочей мы лезли в пекло, не со сволочами шли все эти тяжкие годы.
— Но…
— Молчи и слушай, — приказывает он. — Я не хочу знать, за что ты попал в экипаж. Несправедливость? Может быть. Если это так — дерись. Не умеешь — научись. Нет сил — сдайся. Вот железное правило. На службе только жратва да шмотки по норме положены, остального добивайся сам. Как, впрочем, и в жизни. На готовое не надейся. Иждивенчество здоровых люден самое большое паскудство. Не ждите манны небесной, всего добивайтесь сами. Если надо, повторяю, деритесь.
— А вы, — не выдерживаю я, — деретесь?
— Я сказал тебе, сопляк, сам не терплю, другим не разрешаю лапать чужие души. Мы ждем демо-о-би-ли-зацию. А сволочи… Они были, есть и будут. Но чтобы всех скопом зачислять в эту категорию… Нет у, тебя права так судить о людях: Ни у кого нет такого права, понял? Сначала в себя глянь поглужбе. Найдешь что — продолжим разговор.
Он встал и ушел.
Странно, но я не почувствовал обиды от его слов. Была в его словах какая-то скрытая от меня сила. Вспомнил я чепе в части, когда стоял на посту, разговор с майором в экипаже, каждый свой шаг после школы юнг, подумал о том, что не всегда и не во всем я был прав. Я отмечал для себя лишь обиды, несправедливости. И после и до школы юнг. Но плыл-то я все эти годы по течению, подумалось мне, и если греб иногда, то не всегда в нужную сторону.
Засвербило во мне после разговора с Леней.
История с мичманом добром не кончилась. К мичману приехал тот майор, и они совещались. Нас сняли с участка, куда-то повезли. Старую полуторку мучает кашель. В нашей группе есть парень — Генка Егоров. Он русский, но родился и вырос в этих местах.
— Слушай, Гена, — доносится до меня голос Леонида, — что это за птички сидят на проводах и почему они зеленые?
— Вороны! — кричит в ответ Гена.
— Вороны? — удивляется Леня. — С чего они позеленели?
— С того же, наверное, с чего почернели твои одесские.
— Как их зовут аборигены?
— Гюйкарга.
— Как, как… Гюй, ты говоришь, карга? — он смеется. — Карга! Как мама той моей одесской знакомой, что для меня невеста…
Нам весело. Нам хочется многое узнать из того, что видим. Мы спрашиваем Гену о желтых птицах и узнаем, что это сарыгейнах, то есть желтая рубашка, что красивую, вроде нашего снегиря, только ярче, птаху зовут кизляркушу — девичья песня, а те растения, что островками выступают среди серебристых плешин шорлуха, то есть соли, называют караган. Мы затягиваем «Варяга». Птицы, привыкшие к змеиным шорохам песков, стаями поднимаются из зарослей. Чем дальше, тем меньше встречается поселков. Внезапно оборвался бег телеграфных проводов, скрылся последний виноградник, перед нами, на сколько хватало глаз, лежали пески. Ни кустика, ни колючки. Незаметно оборвалась песня.
Похоже, что приехали мы на край земли. Справа, слева и впереди — только море. Мы забрались на самый кончик длиннющей песчаной косы. Ни деревца вокруг, ни кустика. Одно-единственное строение среди песков, и возле него колодец с журавлем. Далеко виднеется маяк. Мы стоим в строю.