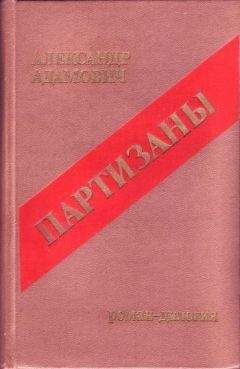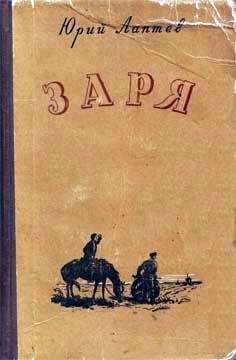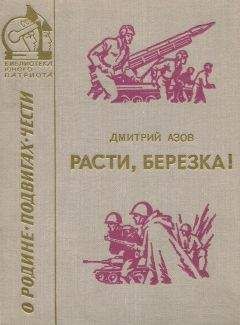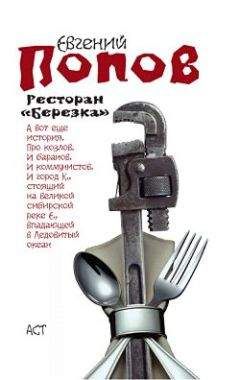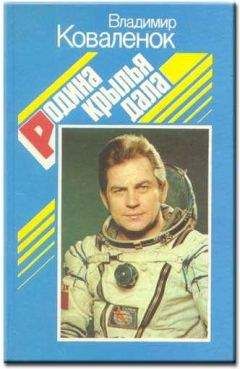Ознакомительная версия.
Когда видишь Колесова, трудно разглядеть в нем что-либо, кроме веселого неиссякаемого добродушия. Вот и сейчас беседует с комиссаром и начальником штаба, а сам улыбчиво посматривает на бойцов. Ему не терпится поговорить с отрядом.
Чуть в сторонке от командиров, но тоже отдельно от взводов стоит Мохарь. Держит в руках планшет, деловито перебирает бумаги. Под слюдой его планшета не карта, как обычно у военных, а белый, совершенно чистый лист бумаги. Озабочен больше всех. Очень занят, но, когда засмеются, обязательно оглянется. Интересно, помнит он сейчас о том, о чем Вася-подрывник рассказывал: как с самолета прыгал?
Когда Мохарь один стоит, кажется, что он низок ростом. Наверное, потому, что ноги не по туловищу короткие. А черная кожанка и вовсе закрывает их. Но приблизился к командиру отряда, и, хотя на голове у Колесова высокая кубанка, сразу стало заметно, что Мохарь совсем не низкий, только весь какой-то квадратный.
Удивительно этот Мохарь улыбается. Смотришь на квадратное лицо его и никак не ждешь улыбки, кажется, неоткуда ей появиться. Но вдруг, вот как сейчас, подошел Сырокваш – и на лице Мохаря уже улыбка. Отвернулся начальник штаба – словно и не было ее. Это так же удивительно, как если бы на чистом листе под слюдой его планшетки то вдруг появлялись письмена, то исчезали бы.
Пока командование совещается, с отрядом «беседует» Баранчик – адъютант командира отряда. Рука у него уже не забинтована, на голове знакомая всем фетровая шляпа, которая здесь, в лесу, и особенно на голове Баранчика, выглядит шутовской. «Беседует» Баранчик беззвучно: таращит глаза, гримасничает. Но этого достаточно, чтобы все улыбались, хлопцам не хочется хмуриться.
Приготовился говорить командир, и Баранчик сделал строгое лицо, но, кажется, слишком строгое: кто-то хихикнул, и остальные тоже засмеялись. Командир добродушно ждал, когда станет тихо. Круглое лицо его очень моложавое. Колесова любят слушать, хотя заранее известно, что он скажет. Но перед боем знакомые слова звучат по-особенному. Кончил Колесов, и тогда заговорил комиссар. У него голос глуше и резче:
– Мы идем громить фрицев и бобиков. Партизаны не спрашивают: сколько их, а – где они? Вы знаете где: пока на нашей земле.
– Больные есть? – тотчас снова заговорил командир отряда. Торжественная строгость совсем оставила его полное и очень свежее лицо, в неярких голубых глазах – понимающая улыбка. Партизаны тоже улыбаются, они знают, что будет дальше. – Ну животик там, головка? – поясняет Колесов, собирая улыбки одобрения с лиц партизан. – Нет инвалидов?
– Молокович, у тебя же нога гноится, – шепчет Головченя.
– Ты… тише, – затравленно сжимается Молокович.
Вытянутое некрасивое лицо его выражает страшный испуг.
– У Коренного обострилась язва. Вчера жаловался, – негромко сказала Толина мать.
Командир отряда услышал, смотрит на Коренного.
– Анна Михайловна, я же не просил… – Сергей болезненно сощурился, зябко дернул узкими плечами.
– Коренной, – очень громко сказал Колесов, – что же ты прямо не скажешь, что болен? Болен – скажи.
Серега ответил тихо, почти спокойно, но на побледневшем лбу капельки пота выступили:
– Не говорить прямо – не в моей привычке. И вообще, оставьте меня в покое.
Но Колесов уже и не слушает его. Снова усмехаясь, спрашивает:
– Ну, значит, порядок в сапогах, в печенке-селезенке?
Застенчиков торопливо, точно опасаясь, что его опередят, шагнул вперед, выкрикнул:
– У меня ухо разрывает, я говорил Марфе Петровне и Анне Михайловне…
– Вот, у него, – обрадовался Молокович, – ухо у него.
– Вашкевич, что там? – почти брезгливо спросил комиссар.
– Говорит, что больной. Он из новеньких. – Вашкевич даже слегка покраснел.
Застенчиков, заикаясь, отчаянным голосом стал заверять кого-то в чем-то.
– Ушко болит? – посочувствовал Колесов.
– Я говорил врачу…
Прозрачный тонкий нос Застенчикова сделался еще белее.
– Говорил, – неохотно подтвердила Марфа Петровна. Она со взводом Царского. В ватнике, в больших сапогах.
– Ну что же ты, дорогой, нервничаешь. Хочешь – оставайся, – сказал Колесов.
Вот и все. Только через это надо переступить человеку, чтобы на рассвете не бежать по открытому полю на немецкие пулеметы. Застенчиков – весь он пятнисто-серый – даже растерялся. И сам, наверно, не рассчитывал, что так просто, легко все решится. Сделал шаг назад, но строй уже сомкнулся, и Застенчикову пришлось идти вдоль ряда не узнающих его, сразу почужевших глаз.
Садилось солнце, взводы уходили с поляны в потемневший лес.
Алексей не оглядывается. А мама так посмотрела, будто не она, а Толя уходит навстречу бою. И Надя несколько раз оглянулась.
Лагерь затих. В землянке пусто и темно. У окошка на столике обшарпанный патефон, гильза-коптилка.
Вместе с сумерками над лагерем повисло ожидание.
Явились Ефимов и Зарубин из деревни. Ходили в баню, да, видно, перечаевничали. «Моряк» сразу побежал в штаб узнать, где найти отряд. Возвратился, страшно ругаясь. Набросился на Ефимова:
– Говорил тебе раньше выйти, чуяла моя душа, чуяла.
– Что такое? – спросил, посвечивая цигаркой, разлегшийся на нарах Фома.
– Железня нас в караул – вот!
– На какие часы?
– Пойди узнай. Да ну вас!
В караул обрядили всех. Толю тоже.
Сколько бывает всего впервые в жизни! Вот хотя бы это: ты идешь на пост. Когда Толю разбудили, он вскочил, как первоклассник первого сентября. Пустая землянка населена колеблющимися тенями, пламя коптилки то испуганно припадает, как уши зайца, то тянется вверх. Караульный начальник Железня специально пришел будить Толю, вести его на пост. Толя страшно торопится, благодарный и смущенный. А Железня пока вполголоса отчитывает дневального Зарубина, которого застал дремлющим над печкой. На нарах лежит задержанный вблизи лагеря человек.
– Он что, дурак – бежать? – оправдывается «моряк». – У нас не убежишь.
Железня прав. Раз поставили, не спи. Остролицый, с опущенными, как под тяжестью, плечами, Железня нравится Толе. Сегодня все уместно: и сухая строгость, и даже то, что голос у человека скрипуч, въедлив. Он караульный начальник – хозяин ночи. Кажется, что сама ночь, как пес, ждет его за порогом.
Толя – подчасок при Ефимове. В холодной яме, где еще стоит кислый дух гнилой картошки, очень даже уютно и интересно. Но настоящий партизан на посту должен испытывать лишь скуку.
– Тут и всхрапнуть можно, – шепчет Толя.
С поста видишь не много: поляну да черную стену леса. Поляна небольшая, но над ней повисло все небо со всеми звездами. Постепенно забываешь, что свет вверxy – от них, от растертых, тусклых звезд. Начинает казаться, что небо подсвечено отблесками далеких незатемненных городов. Где-то на Урале живет Толина тетка, знакомая лишь по письмам. Письма к ней идут через Москву, обратный адрес партизанских отрядов – тоже Москва. И тетка, не заметив маминых намеков («пишу вам, сидя на пне»), мудро заключила, что ее сестра с семьей прописаны по Можайскому шоссе. Несколько раз уже приглашала приехать на Урал: «У нас теперь огородик хороший». Обещала сразу же переслать полевую почту папы, если он догадается написать на Урал.
Есть где-то Москва, Урал, есть тетка, которую Толя никогда не видел, москвичи, сибиряки. Как хорошо, что все это есть и что там нет немцев.
Свет вверху какой-то неровный, кажется, что он то ярче делается, то меркнет. Будто подергивается вслед за нарастающим звуком, который вдруг просочился в высокую тишину неба. Самолет. Звук ближе. Над головой. Уходит медленно.
– Без огней, – веселым басом сипит Фома, – наш.
Наш! Там, вверху, – люди, которые всего лишь несколько часов назад были в довоенном. В это почти не веришь. Что они сейчас видят под крылом, внизу? Лес, ночь. Им невероятным должно казаться, что и тут живут. Им, таким счастливым, наверно, и подумать жутко о том, что они могут остаться в лесу, над которым пролетают. А здорово посмотреть на себя оттуда, сверху, их глазами. Лес, ночь, немцы вокруг, а среди всего этого – партизан. И ему совсем не страшно. Вот только неизвестно, как там мама, Алексей…
В небе новый звук. С металлическим присвистом. Немец летит. Под звездами проплыли зеленые и красные огоньки. Ушел вслед за нашим. Тихо сделалось. Потом два стука в земле. По аэродрому, по кострам, наверное. Нет, а ты на Урал слетай! Слетай-ка. Там и светомаскировки нет. Думал, придешь в Лесную Селибу, и готово – прошел весь Союз!
Ушедшие навстречу завтрашнему бою тоже, наверно, смотрят вверх. А на горке черная деревня. Толя и сам вроде видит ее – наползающую на звездное небо. Там амбразуры, ненавистные подлые руки на пулемете… А за спиной у гада с пулеметом – хаты. В какой-нибудь из этих хат спит сейчас кто-то очень похожий на Толю. Не на теперешнего Толю с винтовкой, а на того, что жил в Лесной Селибе и тоже ночью спал на белой простыне, а днем занят был тем, что вовсю ненавидел немцев и предателей-полицаев. Эх, и младенец же ты со своими глупыми простынями!
Ознакомительная версия.