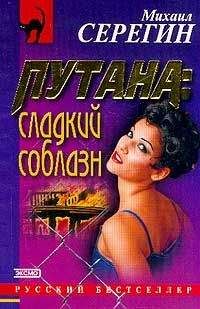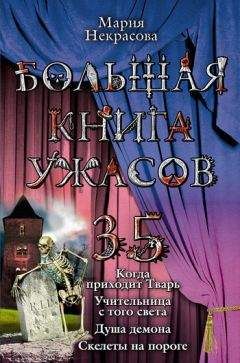Профессор явно поспешил избавить его от необходимости объяснять эти обстоятельства, стал уверять, что тоже об этом искренне сожалеет и ни в коем случае не осмеливается влиять на его решение. Но все же позволит себе спросить, не слишком ли оно импульсивно? Было бы благоразумнее подвергнуть его хотя бы краткой проверке временем.
Пришлось согласиться. Правда, только чтобы не обидеть искренне расположенного к нему профессора. И все же Аннушке написал, что, возможно, скоро вернется домой.
А после пожара рейхстага и потрясшей всех «недели пробудившегося народа», когда штурмовики убивали людей прямо на улицах, — тогда это еще казалось невероятным, — врывались в дома и безо всяких объяснений арестовывали, решение уехать больше не надо было проверять временем. Прощаясь, профессор Фанзен вздохнул:
— Возможно, и мне надо было бы последовать вашему примеру. Но покинуть родину труднее, чем временный причал. Да и, может быть, этот шторм ненадолго… (В молодости Фанзен, чтобы заработать денег на учебу, плавал матросом и любил употреблять слова или сравнения из морского обихода.)
Вернувшись домой, он только нескольким близким друзьям рассказал о том, что видел. Но они не то чтобы не поверили, а не разделили его опасений. Мало ли где что творится… Они, кажется, даже подозревали, что он немного преувеличивает, — у страха, как известно, глаза велики.
Его же самого зародившаяся там тревога не отпускала. Внешне он жил как прежде. Ходил в больницу, возвращался домой. Помогал Виктору, тогда еще студенту, разбираться в премудростях латыни. Подтрунивал над Аннушкой, что она слишком рано стала готовить приданое для Ноймы, может быть, будущему зятю такая вышивка на пододеяльнике не понравится. Гордился Бориной тягой к самостоятельности. Но втайне и сокрушался — самый младший, а наверно, первым покинет родительский дом.
Да, внешне жизнь еще шла своим чередом. Все же целыми вечерами просиживал он у радиоприемника. Слушал Берлин. Двигался по шкале от одной столицы мира к другой. Ловил каждое слово о Германии. Но то, что узнавал, только усиливало беспокойство. Гитлер за одну ночь расправился со своими недавними сообщниками. Это еще можно было объяснить примерами из истории. Но после «хрустальной ночи» — погромов одновременно по всей Германии — было уже не до аналогий… А когда этот крикливый ефрейтор захватил Австрию, потом Чехословакию, когда забрал у Литвы Клайпеду, не надо было быть пророком, чтобы понять — он пойдет дальше. Значит — война!
Вдруг Зив вздрогнул — идут! За ним! Но сразу опомнился, — наверно, Виктор. Быстро, без скрипа, открыл дверь. Слава богу, пришли. Он бросился снимать с сына рюкзак. Осторожно положил его на полку. Стал развязывать. Почему узел так туго затянут? Нет, узел ни при чем — руки дрожат…
Яник спит. Лежит скрючившись, как в утробе матери. Инстинкт… Они его осторожно вынули. Стали легонько массировать и расправлять ножки. Ничего, что еще не проснулся. Пусть поспит.
Зив шепнул Виктору, чтобы он тоже лег, на соседнюю полку. Сам он посидит возле Яника, пока ребенок не проснется. Чтобы не испугался. А еще лучше ляжет рядом, Янику будет теплее…
Алина хотела дойти с Виктором до самого шлагбаума перед воротами. Но он показал, чтобы дальше не шла, — там уже строилась колонна, с которой он выйдет.
Она притаилась в тени дома. Аннушка с Ноймой стояли на той стороне улочки, — никто не должен догадаться, что Виктора провожают. Могут заподозрить, что он не на работу выходит.
Виктор встал в строй. Но Алина смотрела только на рюкзак… Вдруг ей показалось, что кто-то задел его. Нет. Это Виктор сам повернулся. Почему он встал не в середину ряда? Ведь договорились, что обязательно в середину. И немножко боком, чтобы рюкзак так не бросался в глаза. А еще эта палка. Сунул ее для маскировки — пусть думают, что в рюкзаке инструменты, но палка только привлекает внимание. О Господи, как не вовремя взошла луна!
Почему их не выпускают? Ведь колонна уже построилась. И полицейские о чем-то шепчутся. Один идет… к Виктору? Нет, прошел мимо… открывают ворота… Наконец!
Тронулись. Только бы полицейские, когда Виктор будет проходить мимо них… Вдруг она поняла, что рюкзак уже за воротами, даже не виден, его заслонили идущие сзади. Но Яник уже, слава Богу, т а м, за воротами! Он больше не в гетто!
Она смотрела, как полицейский снова закрывает ворота. Здесь пусто, никого нет.
Колонна, в которой Виктор, наверно, уже свернула направо. Идет по Гончарному переулку. Ее не задержат. Идущих на работу не проверяют. А Яник в рюкзаке спит. Скрючился, бедненький, и холодно. Но иначе нельзя было. Зато он больше не в гетто.
— Алина, нельзя тут больше стоять. — Она даже не заметила, когда Нойма с матерью подошли.
— Да, да, иду.
Она шла мимо тех же чернеющих слепыми окнами домов. И высокая каменная ограда там, в конце улочки, та же. Все гетто огорожено такими стенами. И если бы Яник остался здесь, его бы тоже… Вместе со взрослыми… в тот лес… Выстрелили бы в затылочек…
Ее трясло.
Мама с Ноймой вели ее под руки, она шла, дрожала и плакала. Виктор вынес Яника… в него не выстрелят… он будет жить. Яник будет жить…
— …Какие мы, женщины, странные… — Мама хочет ее успокоить, а у самой голос дрожит. — И плохо — плачем, и когда радоваться надо, тоже плачем.
Перед домом они остановились. Нойме мама велела подняться наверх.
— А мы еще немного постоим. Не надо, чтобы нас видели такими взволнованными.
Да, да, не надо! Она сейчас успокоится. Должна успокоиться. Они всем будут говорить, что Яник заболел. Дед подозревает корь, и, чтобы не заразить других детей, они перебрались с ним к друзьям. Те живут в другом конце гетто в крохотной мансарде, зато только своей семьей, и там нет маленьких детей.
Она опять чуть не расплакалась оттого, что у них такой золотой дед. Это он придумал про корь. И серьезно объяснил, почему соседям, по крайней мере пока, нельзя сказать правду. Во-первых, чтобы их не напугать, — ведь за любое бегство из гетто ответят те, кто знал об этом и не донес. Во-вторых, а может быть, даже во-первых, — чтобы не причинять людям лишней боли. Как бы человек ни желал другому добра, как бы ни радовался, что хоть кто-то спасется, а все же, когда речь заходит о жизни собственных детей…
Алине вдруг стало стыдно. За свои слезы, за эту дрожь. Она ведь тоже уйдет отсюда. Мама ее успокаивает, а сама каждый вечер будет так вот провожать…
— Мама, — голос все-таки дрогнул, и она повторила тверже: — Мама, завтра выйду не я, а вы.
— Ну, раз ты делаешь такие предложения, значит, пришла в себя.
Не пришла. Но понимает, как трудно будет маме провожать. Нойму, Борю, ее.
— Сейчас поднимемся, ляжем и подождем, пока все уснут. Тогда начнешь тихонько надевать на себя все, что завтра должна вынести. Хорошо, если бы налезли все три платья. И теплая кофта. Ты меня слушаешь?
— Слушаю. Но, пожалуйста, завтра выходите вы.
— Со свекровью не спорят. Под серое платье я тебе подшила свитерок Яника. Хорошо бы и вторые брючки ему, но некуда. Тебе ведь еще целый день во всем этом работать.
Алине казалось, что мама не о ней говорит. Не она должна будет, надев на себя все, что только влезет, завтра отсюда уйти насовсем. И целый день в мастерской ничем себя не выдать, казаться совершенно спокойной. А вечером, когда поведут с работы, встать с левого края. И спокойно идти вместе со всеми до поворота. Только когда колонна начнет сворачивать за угол, когда первые ряды уже свернут и конвоир будет справа — быстро сорвать желтые звезды, шагнуть на тротуар и сразу пойти в противоположную сторону. Дом, в подвале которого Яник с Виктором и дедом, она помнит. То есть помнит бывший дом. Теперь вместо него увидит развалины. Но соседние уцелели, надо ориентироваться по ним. Она должна войти во двор дома, который справа, и сразу по левую руку, под остатками лестницы…
Они поднялись наверх. Мама тихо приоткрыла дверь. В комнате было совсем темно, уже не горела ни одна коптилка. На цыпочках через чьи-то ноги перешагивали, чьи-то обходили. Пробрались в свой угол. Борис и Нойма с Марком уже спали.
Алина сняла боты, помогла снять маме, и они наконец опустились на подстилку. Теперь тут было просторно, — место Виктора и деда между ними пустовало. Обе смотрели на эту пустоту, и обе, конечно, думали об одном — как Виктор дошел? Там ли он уже? На сундук, куда она каждый вечер укладывала Яника, Алина старалась не смотреть…
Дед особенно напирал на то, что в подвале есть полки, и там не придется лежать на полу. Почему-то лежание на полу его особенно смущает. Каждый раз, укладываясь, он пытался скрыть неловкость за шутливой просьбой к Виктору и Аннушке даже во сне не посягать на его «территорию»; уверял, что ее границы и в темноте видны — справа проходит по голубой полоске, слева — по черной. А этих разноцветных полосок и лоскутков здесь столько… Когда Нойма стала приносить с работы по одной-две тряпочки — ветошь, которую им дают для вытирания машин, — мама Аннушка принялась их тщательно сшивать. Каждый день надставляла, и получилась большая, общесемейная подстилка. Жаль, что ее нельзя вынести с собой. Даже если снова распороть на лоскутки. Но ничего, останется другим.