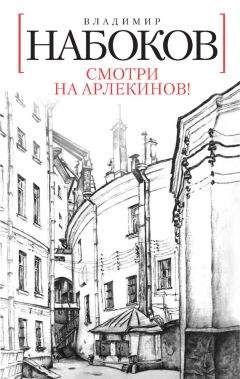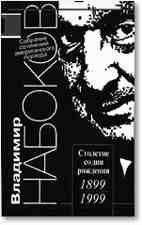Набоков Владимир
Смотри на Арлекинов !
Владимир Набоков
Смотри на Арлекинов!
* Часть первая *
1.
С первой из череды трех или четырех моих жен я познакомился при обстоятельствах несколько странных, - само их развитие походило на полную нелепых подробностей топорную интригу, руководитель которой не только не знает о ее истинной цели, но и упорствует в дурацких ходах, казалось бы, отвращающих малейшую возможность успеха. И вот из этих-то промахов он ненароком сплетает паутину, в которой ряд моих ответных оплошностей запутывает меня, заставляя исполнить назначенное, что и являлось единственным смыслом заговора.
В один из дней пасхального триместра моего последнего кембриджского года (1922-го) мне довелось "как русскому" просвещать относительно некоторых тонкостей костюма Ивора Блэка, неплохого актера-любителя, под руководством которого театральная артель "Светлячок" намеревалась поставить гоголевского "Ревизора" в английском переводе. В Тринити у нас с ним был общий наставник, и Блэк умучил меня нудными имитациями жеманных ужимок старика, - представление это заняло большую часть нашего ленча в "Питте". Недолгая деловая часть оказалась еще менее приятной. Ивор Блэк предполагал облачить Городничего в халат, потому что "все это просто приснилось старому прохиндею, верно? - ведь и название "Ревизор" происходит от французского 'reve' то есть 'сон'". Я сказал, что по-моему - идея самая жуткая.
Если какие-то репетиции и происходили, то без меня. Мне, собственно, только теперь и пришло в голову, что я даже не знаю, довелось ли этой затее увидеть свет рампы.
Вскоре после того я повстречался с Ивором Блэком на какой-то вечеринке, и он пригласил меня и со мной еще пятерых провести лето на Лазурном Берегу, - на вилле, которую он, по его словам, только что унаследовал от старенькой тети. В ту минуту он был здорово пьян и, похоже, весьма удивился, когда через неделю или несколько позже, перед самым его отъездом, я напомнил ему об этом щедром предложении, которое, как выяснилось, один только я и принял. Мы оба сироты, сказал я, никто нас не любит, так надо уж держаться друг друга.
Болезнь на целый месяц задержала меня в Англии, и только в начале июля я отправил Ивору Блэку вежливую открытку, извещая, что могу появиться в Каннах или в Ницце в один из дней следующей недели. Я почти уверен, что назвал вторую половину субботы в качестве наиболее вероятного времени.
Попытки дозвониться со станции оказались бесплодными: линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упроствует в борьбе с неисправными абстракциями пространства. Неудача отравила мне послеполуденные часы, а это мое любимое время. В начале долгой поездки я уверил себя, что самочувствие мое вполне сносно, теперь оно было ужасным. День стоял не по сезону сырой и хмурый. Пальмы уместны лишь в миражах. Бог весть почему, такси, словно в дурном сне, были неуловимы. В конце концов, я погрузился в тщедушный и душный автобус из синей жести. Всползая по петлистой дороге, где поворотов было не меньше, чем "остановок по требованию", эта колымага достигла места моего назначения за двадцать минут: примерно столько же занял бы пеший переход с побережья - легким и кратким путем, который мне в то волшебное лето предстояло заучить наизусть, камень за камнем, куст за кустом. Впрочем, каким угодно, но не волшебным глядело лето во время той мерзкой поездки! Главная причина, по которой я решился приехать сюда, состояла в надежде подлечить среди "брильянтовых брызг" (Беннет? Барбеллион?) расстройство нервов, порубежное сумасшествию. Теперь в левой доле моей головы размещался кегельбан боли. По другую сторону бессмысленное дитя таращилось над материнским плечом и поверх спинки сидения впереди. Я же сидел обок бородавчатой бабы в черном и тошнотно заплевывал склон между зеленым морем и серой скальной стеной. О ту пору, как мы наконец дотащились до деревни Карнаво (крапчатые платаны, картинные хижины, почта, церковь), все мои чувства влеклись к одному золотистому образу - к бутылке виски, которую я вез в чемодане для Ивора и которую поклялся откупорить еще до того, как она попадется ему на глаза. Водитель оставил мой вопрос без ответа, но сошедший прежде меня священник, похожий на черепашку с парой огромных ступней, ткнул, не глядя на меня, в поперечную аллею деревьев. Вилла "Ирис", сказал он, в трех минутах ходьбы. Пока я приготовлялся волочь чету моих чемоданов вдоль этой аллеи к внезапно вспыхнувшему солнечному треугольнику, на противной панели завиделся мой предположительный хозяин. Помнится, - а ведь полвека прошло! - я на миг усомнился, правильного ли сорта одежды я захватил. На нем были брюкигольф и тяжелые башмаки, носков почему-то не было; голени, оголенные на полвершка, отливали болезненной краснотой. Он направлялся - или сделал такой вид - на почту, чтобы телеграммой просить меня отсрочить мой приезд до августа, когда служба, только что найденная им в Канницце, уже не сможет служить помехою нашим развлечениям. Сверх того, он надеялся, что Себастьян, - кто бы он ни был, все же сумеет приехать к поре винограда или к триумфу лаванды. Пробормотав все это вполголоса, он отнял у меня чемодан, который поменьше - с туалетными мелочами, запасом лекарств и с почти доплетенным венком сонетов (которому предстояло отправиться в Париж, в русский эмигрантский журнал). Следом он подхватил и другой чемодан, - я поставил его, чтобы набить трубку. Столь чрезмерную приметливость по части мелочей вызвал, полагаю, упавший на них случайный свет, отброшенный вперед великим событием. Ивор нарушил молчание, чтобы прибавить, нахмурясь, что как ни приятно ему принимать меня в своем доме, но он обязан кое о чем меня предупредить, ему следовало бы рассказать об этом еще в Кембридже. Тут имеется одно прискорбное обстоятельство, способное извести меня меньше, чем за неделю. Мисс Грант, прежняя его гувернантка, женщина бессердечная, но умная, говаривала, что его малышка-сестра никогда не нарушит правила, согласно которому "детей не должно быть слышно", - да, собственно, она не сумеет и услышать о нем. Прискорбное обстоятельство в том-то и состоит, что сестра, впрочем, ему, пожалуй, лучше отложить рассказ о ее недуге до той поры, когда и мы, и чемоданы более или менее обоснуемся.
2.
"Что же за детство у тебя было, Мак-Наб?" (так упорно звал меня Ивор, по мнению коего я походил на изможденного, но миловидного молодого актера, принявшего это имя в последние годы своей жизни или по крайности славы).
Жестокое, нестерпимое. Надлежало б существовать природному - международному - закону, запрещающему начинать жизнь столь негуманным образом. Когда бы в возрасте лет девятидесяти мои больные страхи не заместились более отвлеченными и пустыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности и проч.), я потерял бы рассудок задолго до того, как сыскал размеры и рифмы. Дело идет не о темных комнатах или агонизирующих ангелах об одном крыле, не о длинных коридорах или кошмарных зеркалах, из которых льются отражения, растекаясь по полу грязными лужами, нет, не об этих опочивальнях жути, а проще и много страшней - о некой вкрадчивой и безжалостной связи с иными состояниями бытия, не "бывшими", в точности, и не "будущими", но определенно запредельными, между нами смертными говоря. Мне предстояло еще узнать гораздо, гораздо больше об этих болезненных связях всего несколько десятилетий спустя, так что "не будем опережать событий", как выразился казнимый, отстраняя заношенную, сальную повязку для глаз.
Радости созревания даровали мне временное облегчение. Унылая пора самоинициации миновала меня. Да будет благословенна моя первая сладкая любовь, дитя в плодовом саду, наши пытливые игры и ее растопыренная пятерня, роняющая жемчуга изумления. Домашний учитель поделился со мною услугами инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две похотливые юные дамы однажды напялили на меня кружевную сорочку и паричок Лорелеи и уложили спать между собой - "стеснительную маленькую кузину", словно в скабрезной новелле, - пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Просторные поместья разнообразной родни, с которой я в отрочестве съезжался и разъезжался под бледными летними небесами прежних российских губерний, предоставляли мне столько же уступчивых горничных и модных кокеток, сколько могли предложить туалетных и будуаров за два столетья до этого. Словом, если пора моего младенчества сгодилась бы для ученой диссертации, на которой утверждает пожизненную известность детский психолог, отрочество мое в состоянии дать, да собственно, и дало порядочное число эротических сцен, рассыпанных, подобно подгнившим сливам и забурелым грушам, по книгам стареющего романиста. И право, ценность настоящих воспоминаний по преимуществу определяется тем, что они представляют собой catalogue raisonne корней, истоков и извилистых родовых каналов множества образов моих русских и особливо английских произведений.