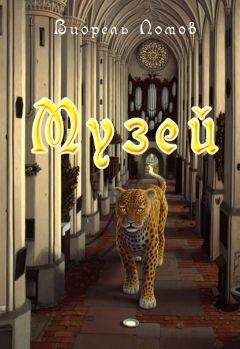Виорэль Ломов
Музей
Повесть
От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Русская пословица
Как сейчас помню, была пятница, тринадцатое…
Как сейчас помню, была пятница, тринадцатое, разгар июня… А может, я и ошибаюсь, и был май, и вовсе не тринадцатое. Память так капризна.
Кстати, как только начинаешь вспоминать, вспоминается бог знает что, чего и близко не было. Хотя тут же готов голову дать на отсечение, что всё было именно так!
Вспомнишь эпизод, и сердце замрет, не в силах покинуть тот остановившийся навсегда момент времени.
Меня уже месяц носило по городу, в котором я никому не был нужен. Карманы и душа мои были пусты. Это только природа не терпит пустоты, а душа стерпелась. Впрочем, у меня оставалось еще немного денег, чтобы оттянуть тот момент, когда меня понесет к мусорным ящикам и урнам, как гибнущий корабль на скалы. Только вряд ли что оставили там крысы, собаки и пенсионеры. Есть еще паперть, грабеж да мысли о бессмертии. Странно, что бомжи тоже хотят жить. Собственно, что еще желать в стране, где улыбка занесена в Красную книгу?
Месяц назад я истово решал классические вопросы бытия, один за другим выдирая их с корнем из души, как сорняки. Выдрал и решил: когда виноват весь мир, значит, виноват и ты, и ничего тут не поделаешь.
И весь этот месяц я тянул, как актер, паузу и не забирал со сберкнижки последние рубли, которых могло бы вполне хватить на ритуальные услуги. Я жил случайными заработками, а ночевал на даче, которая единственная осталась у меня от прежней нормальной жизни. Чтобы избежать радостных встреч с контролерами, я с дачи уезжал первой электричкой, а возвращался последней. И с каждым днем всё больше и больше в электричках становилось людей, похожих на меня, и с каждым днем я всё меньше и меньше становился похожим на людей, от которых каждую ночь уезжал с вокзала на юго-восток. Я стал плохо спать. А если и засыпал, то во сне мчался сломя голову в грохочущем вагоне от преследующей меня темноты.
Мимо процокала девица. Мне раньше нравился июнь. В июне откуда-то появлялось много женщин. Совершенно бесполезных созданий, впрочем, как и мужчин.
Старик с седой бородой, как у Хемингуэя, в толстом осеннем пальто и кроличьей шапке, закинув руки за спину, брел впереди, разглядывая асфальт. Поднял что-то, бросил и стал яростно пинать ногами. В мою сторону откатилась сплющенная крышечка от бутылки.
Я представил себе на миг, что буду вот так же шататься по городу в разгар лета в несуразном, но необходимом наряде, рыться на помойках и собирать бутылки, и содрогнулся от собственной грязи, словно вдруг провалился в сточную яму. Сколько дней этот старик живет внутри своего тела, внутри своей души, внутри своих мыслей, съежившись, сжавшись, замерев, лишь бы не чувствовать их грубую, грязную корку, лишь бы не касаться их границ?
Только тут я заметил, что после ночного дождя на черном асфальте много сломанных веток. У тополя конституция хрупкая, как у бродячего актера. Тополя, тополя, кто же ваш режиссер?
Я прошел мимо павильончика, на двери которого вечно висит табличка "Технический перерыв". Сейчас таблички не было.
— Пивка не желаете? — Крашеная блондинка выглянула из дверей павильона.
— На обратном пути, — сказал я.
Меня вынесло на проспект, зажатый между стенами серых зданий. Угловой дом перед площадью был безобразно громаден. В нем можно было бы запросто разместить всех бандитов и бомжей Центрального района.
— Мужик, подсоби-ка! — донеслось как из-под земли. — Дверь надо открыть.
На нижней ступеньке зарешеченного спуска в подвал стоял лысый здоровяк лет шестидесяти с чучелом рыси в руках. Я спустился на пятнадцать ступенек и помог ему.
— Помоги еще, — попросил мужчина.
В подвале он зажег свет, мы прошли еще метров тридцать, и он открыл одну из многочисленных дверей. Я отдал ему чучело. На миг мне показалось, что рысь живая. Взгромоздив рысь на верстак, мужчина вытер пот со лба и потянулся к начатой бутылке пива. Сделав два глотка, он предложил мне допить бутылку.
Пиво выдохлось и было теплое. Я огляделся. Комната была заставлена чучелами. На столе лежала краюха хлеба. Я невольно проглотил слюну. Два дня назад я перешел на режим жесткой экономии и перестал ужинать и завтракать. Жизнь вприглядку — вполне сносная вещь. Некоторое время.
— Бери, — сказал мужчина. — Чай будешь? Бомж?
— Пока кандидат. Для чучела не сгожусь? Продам себя по дешевке.
Таксидермист пригляделся ко мне. После некоторого раздумья произнес:
— Место есть, разнорабочего. Здоровье как? Не музыкант? А то те руки очень уж берегут. Поешь, да к заму пойдем. Паспорт есть?
— Можно? — В дверь на уровне стола влезла голова. Между бородой и кроличьей шапкой блестели глаза.
— Федул, заползай!
Зашел старик, пинавший крышечку. Он стащил шапку и стал похож на Хемингуэя не одной бородой, а всеми чертами лица. Только лысина была пониже и сам он жизнелюбивее. Копия моего кормильца, разве что несуразная и грязная.
Таксидермист достал еще один бокал. Попробовал оттереть пальцами коричневый налет на ободке.
— Чего не был три дня? Забирали?
— Да кому я, Вова, на фиг нужен? Ты когда чучело из меня сделаешь?
— После него, — кивнул на меня таксидермист. — Жир нагуляй.
— Поздно уже нагуливать. Новенький? — обратился Федул ко мне, глядя на Вову.
— Думал долго, вот он твою строчку и занял, — ответил таксидермист.
— Так у тебя ж работать надо? Мой трудовой энтузиазм, Вова, там остался. Федул махнул рукой в неопределенном направлении.
— До чего ж ты опустился, Федул!
— Я, Вовчик, пал, чтоб встать! Вчера полтинник стукнул! — радостно сообщил он мне и вдруг встал в боксерскую стойку и помолотил кулаками по воздуху. Маменька с папенькой, жаль, не дожили, порадовались бы за сына. Ой, как порадовались бы!..
— Осталась строчка дворника, — сказал Вовчик.
— Сыну полтинник стукнул!.. Дворника — шутишь? А чего-нибудь для головы?
— Опять? Сдохнешь ведь с голоду!
— Ну и живодер же ты, Вова! Сразу: "сдохнешь"!
Федул натянул шапку и, не прощаясь, вышел.
— Сволочь! — ласково произнес Вова. — Попил? Айда к Салтыкову. ГОСТа случайно не знаешь на припои? Смету составляю, а по сварке я — швах.
— На запои забыл, а на припои помню. Если классификация интересует, то ГОСТ: один, девять, два, четыре, восемь, семь, три…
Вова ошарашенно посмотрел на меня.
— Это ты серьезно? Откуда знаешь? — Он вписал в смету номер ГОСТа.
— Конечно, серьезно. Сварщик я. Не тот, что варит дугой, а тот, что варит мозгой, эсэнэс — совсем ненужный сотрудник.
Замдиректора с изможденным, но все равно круглым лицом взглянул на Вову, потом на меня, не здороваясь, протянул руку и поиграл пальцами.
Я протянул ему паспорт.
— Сварщик! — аттестовал меня таксидермист. — И к тому же старший научный сотрудник. Мозгой работает — ГОСТы наизусть шпарит. Как Отче наш.
Салтыков безучастно отнесся к его сообщению, изучил паспорт и протянул мне бланк типового договора. Кинул ручку. Взглянул на часы.
— У меня десять минут.
Я заполнил бланк, поставил подпись. Салтыков посмотрел и тоже расписался.
— А что там за пункт такой? — спросил я. — Третий, кажется. "После месячного испытательного срока договор пролонгируется при обоюдном согласии администрации музея и работника".
— Да, это третий пункт, — ответил зам, приглядываясь ко мне. — Не больны?
"Они тут в космос готовят, что ли?" — подумал я.
Он постоял, подумал, шевеля губами, сказал:
— Вова Сергеич, расскажи тут ему… Рукавицы не забудь.
А потом обратился ко мне:
— Я зам. А Вова Сергеич мой пом. — И ушел.
Помзам Вова выдал рукавицы и повел меня по комнатам и залам. Привел куда-то.
— Вот тут будешь трудиться до обеда, — сказал он. — Науки, понятно, не много, но работа — сплошной кайф. Бери больше, тащи дальше. Из пункта А в пункт Б. Отсюда туда.
Пункт А был завален какими-то коробками. Я стал носить их в пункт Б. Основное правило несуна: если сегодня из пункта А всё перетащить в пункт Б, завтра будет что тащить из пункта Б домой. Если, конечно, есть дом.
Часам к двенадцати я справился с заданием. Вова Сергеич остался доволен.
Завтра у нас выходной…
— Завтра у нас выходной, — сказал он. — Крыша как?
Я похлопал себя по макушке.
— Да пока на месте.
— Жить, спрашиваю, где будешь? Дом есть?
— Где я, там и дом. — Я на всякий случай о домике (три на четыре, с верандой, на сорок восьмой версте) умолчал.
— Прям как улитка.
Помзам задумался, погладил свою гладкую макушку. Глянул на ладонь, понюхал.