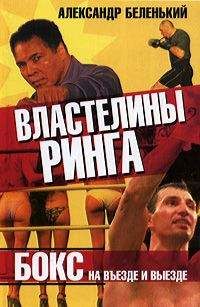Григорий Канович - Парк забытых евреев
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Григорий Канович - Парк забытых евреев. Жанр: Русская классическая проза издательство неизвестно, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Григорий Канович - Парк забытых евреев краткое содержание
Парк забытых евреев читать онлайн бесплатно
Канович Григорий
Парк забытых евреев
Григорий КАНОВИЧ
Парк забытых евреев
Внучке Еве Канович
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ицхак всегда приходил туда первым. Не потому, что жил ближе всех к Бернардинскому саду, где все дни недели, кроме воскресенья, они собирались под старыми княжескими липами, бесшумно и благостно шелестевшими своими листьями, как ангельскими крыльями, а потому, что он, Ицхак, как служка Мейер, открывал их общую, раскинувшуюся под открытым небом молельню, в которой каждый из собиравшихся был и богомольцем, и раввином, и старцем, и юнцом. Служки Мейера давно не было в живых, но Ицхак неизменно вспоминал о нем с какой-то тихой и благодарной грустью, с почти что греховной завистью: ему, мол, хорошо, он там, у Божьего пристола. Ицхак вспоминал Мейера чаще, чем своих родных братьев Айзика и Гилеля, расстрелянных в светлое, прозрачное, как подвенечное платье, утро, при самом въезде в местечко, в березовой рощице, сбегавшей с пригорка прямо к реке, к быстротечной таинственной Вилии, в которой он, Ицхак, неслух, любознательный, как только что родившийся козленок, дважды тонул. Видно, суждено ему было распрощаться с миром не в воде, а на суше, хотя в воде было бы лучше - плывешь себе, как живой, кругом рыбы и водоросли, плотва и уклейки торкаются в твои бока, щекочут - благодать. Если бы Ицхаку, безусому долговязому юнцу, кто-то сказал: дотянешь, парень, до восьмидесяти пяти с гаком, дождешься дня, когда твои глаза потускнеют, как припрятанное скупцом серебро, и ты не сможешь отличить, где река, а где небо, Ицхак ответил бы: "На кой черт мне восемьдесят пять несчастий, восемьдесят пять хомутов, которые натирают шею и которые ни на один час не скинешь?!" В те неразумные времена Ицхак хотел жить столько, сколько птица,- лишь бы щебетать с утра до вечера, лишь бы воспарять все выше и выше. Он не хотел жить столько, сколько лошадь дяди Рахмиэля, что за жизнь, когда тебя день-деньской хлещут кнутом, хотя и кормят досыта и, стреноженную, выпускают на лужайку? Ицхак Малкин всегда приходил в Бернардинский сад, в эту молельню под липами, первым и потому, что мог какие-нибудь четверть часа спокойно предаваться воспоминаниям,- ему не докучали ненужными вопросами, он был один, как Бог, никого из посторонних вокруг не было, только он и листья, только он и небо, только он и растаявшая в утреннем тумане, изорванная в клочья его жизнь. Правда, никто из тех, кто приходил позже, чем он, не был посторонним, они были для него роднее родных. Да простит ему за такое кощунство Господь, но что толку в мертвых родственниках? Разлетелись в разные стороны и живые кто в Америку, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в Германию, в ту самую Германию, где он, рядовой Красной Армии Ицхак Малкин, встретил Победу и где почти что полгода, до самой демобилизации, обшивал полководцев-победителей. Он-то что, все-таки вернулся из Потсдама с трофеем - с машинкой "Зингер". А что досталось гвардии сержанту Натану Гутионтову? Две медали "За отвагу" и деревяшка, которой его наградили в военном госпитале. За деревяшку спасибо. Но попробуй-ка выстоять на ней перед зеркалом целый день, целую оставшуюся жизнь! Гутионтов приходил обычно в Бернардинский сад, или, как он его величал, парк ненужных евреев, вторым. Чаще всего Ицхак почему-то вспоминал не родительский дом, не отца Довида, знаменитого на всю округу сапожника, не мать Рахель, торговавшую пухом и пером, не братьев Айзика и Гилеля, да будет память их благословенна, а реку, полноводную, кишащую тайнами, как мальками, ее темно-зеленый окрас, ее изогнутые берега, на которых паслись ленивые коровы с печальными вдовьими глазами, заглянешь - а в них, словно на дне Вилии, плавают причудливые рыбы и колышутся диковинные водоросли. Ицхак любил смотреть на коров, следить за тем, как они спускаются к водопою, медленно и жадно пьют бессмертную воду и сами, казалось, обретают бессмертие. Закончат свой земной круг отец и мать, умрет он, Ицхак, уйдут в небытие братья Айзик и Гилель, а эти большеголовые, большеглазые животные с поступью древних цариц пребудут вечно - до скончания дней топтать и топтать им сочную прибрежную траву, поворачивать тяжелую голову, как унизанную жемчугом корону, к закатному солнцу. И так же до скончания дней с их влажных и непроницаемых морд будет стекать утепленная дыханием струйка. С тех давних пор она, эта струйка, втекает в его душу. Втекает и сейчас, когда в Бернардинском саду, в парке забытых Богом евреев, он ждет своих собутыльников, тех, с кем целыми днями под сенью дружелюбных лип пьет самый сладкий и самый горький напиток на свете - воспоминания. В наспех вырытых окопах под Алексеевкой и Прохоровкой перед его, Ицхака, заметенными порошей безысходности глазами сверкала эта стекающая с коровьих морд струйка. Он припадал к ней искореженным жаждой ртом и втягивал пересохшими губами. Но о, чудо! - вода не убывала, не иссякала, не кончалась. Ицхак то и дело оглядывался по сторонам, но Натана Гутионтова нигде не было видно. По правде говоря, Малкин не жалел, что друг запаздывает. Он наслаждался одиночеством. Ему хотелось все больше и больше хмелеть. Хмель разливался по всему его телу, туманил глаза, усыплял. Еще миг - и Ицхак уснет, ему приснится какой-нибудь сон: берег той Вилии, коровы, солнце, шмели. Хмелеть, хмелеть, хмелеть... Сразу же после войны - кажется, в сорок шестом - он поехал с Эстер (Господи, сколько уже прошло после ее смерти!) на родину, в свое местечко - туда, где в тесной каморке, под засиженным перекормленными мухами оконцем, не разгибая спины, корпел с шилом в руках его отец Довид, туда, где на дворе стояла пустая телега его дяди - балагулы Рахмиэля, торчащие оглобли которой вонзались в равнодушное небо, туда, где на бессмертном прибрежном лужке паслись бессмертные коровы и окунали унизанные жемчугом короны в бессмертную темно-зеленую воду. Ицхак вспомнил, как он и Эстер слезли с неспешного, почти пустого поезда и по теплой, как парное молоко, весенней грязи потопали с местечкового вокзала, еще по-зимнему стылого и понурого, в ту сторону, у которой нет и никогда не будет другого имени, как родина. Когда они приблизились к местечку настолько, что можно было легко разглядеть белую, засахарившуюся, словно варенье, кладку костела, чудом уцелевшего в лихолетье, деревянную мельницу, напоминавшую огромную засушенную стрекозу, и бросившиеся от них врассыпную дома, их охватило знобкое волнение. - Ицхак,- прошептала Эстер и притронулась к его рукаву,- ты уверен: мы сошли, где надо? Он отчетливо слышал в Бернардинском саду ее голос, тот давний, звучный, не сравнимый ни с какими другими, голос, не искаженный болезнью, не тронутый старостью, голос, а не хрип, не жуткое бормотание смертницы. - Не знаю, где надо, где не надо, но сошли. - Там, где надо? - по обыкновению, переспросила Эстер. - Там! - закричал Ицхак и сам испугался своего крика. На кого он тогда кричал? Ицхак наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Не на Эстер, конечно. На нее он никогда не кричал. Наверное, на страх, на время воплощение страха; хотя время - кричи, не кричи - все равно не переме-нишь. И еще на войну, на немцев, на их холуев-литовцев и еще на себя, оставшегося в живых. Зачем он остался в живых? Чтобы через десять лет похоронить Эстер, чтобы сорок лет быть прикованным к "Зингеру"? Строчи, не строчи, заново не сошьешь ни братьев Айзика и Гилеля, ни Эстер, ни время. Никого и ничего. Впереди забелела простроченная птичьими трелями березовая рощица. По преданию, березы высадил какой-то русский дворянин по фамилии не то Белокуров, не то Белобородов, бежавший после революции в Литву. Он купил под Каунасом землю, привез саженцы и в память о России и о своих четырех погубленных во время смуты сестрах решил соорудить шелестящее надгробие. Отец Ицхака Довид уверял, что у этого русского барина из головы выпали все гвоздочки, как из сношенного башмака. Рабби Мендель, наоборот, не скупился на похвалы христианину. - Он не только богаче нас, но, может, и умнее,- убеждал всех Мендель.- Что такое деньги? Ведь они не отбрасывают в зной тень для других, не дарят прохладу безымянному страннику, не дают приют залетной птице. Ицхак снова огляделся по сторонам. Куда же подевался Гутионтов? Может, с ним, не дай Бог, что-то случилось? В таком возрасте всякое бывает: сегодня жив, над другими смеешься, а завтра, не про Натана да будет сказано, глядишь, уже тебя оплакивают. Нет, нет, лучше не думать о смерти. Лучше вместе с Эстер дальше топать по знакомой дороге от кирпичного вокзала до родного местечка. От местечка до вокзала провожала в двадцать третьем Эстер статного, голубоглазого, черноволосого Ицхака в Литовское войско. Ицхак служил в уланах - то была немалая честь для новобранца-еврея (в уланах и обмундирование красивее, и харч куда лучше). Только его отца Довида одолевали страхи: а вдруг его Ицикл выкрестится, превратится из Малкина в Малькявичюса или в Малкаускаса? Отцовские страхи были напрасны. Как ушел Ицхак в войско евреем, так евреем и вернулся, хотя мать в первую же ночь задрала у спящего рубаху, но креста на груди, слава Богу, не обнаружила. На проселочной дороге, соединявшей местечко с миром, встречала его Эстер в двадцать пятом. В руках у нее, словно огромный одуванчик, желтел пирог, ибо она хотела, чтобы жизнь их пахла не разношенными башмаками, а корицей и изюмом, как в доме лавочника Пагирского. Ицхак Малкин прислушивался к усыпляющему шуму лип в Бернардинском саду и беспечному пересвисту птиц, и у него из памяти, загроможденной событиями, одна за другой вылетали птицы его молодости. Они слетались на пирог Эстер, но та отпугивала их и, переполненная счастьем от его возвращения, приговаривала: - Кыш, кыш! Не для вас пекла... Потерпите, неугомонные, вот сыграем свадьбу, я куплю мешок крупы и весь рассыплю... По этой раскисшей, хлюпкой дороге они (уже муж и жена) провожали в Америку сперва брата Эстер Хаима, потом сестру Ицхака Лею. Америка была далеко-далеко, но она сияла для них, как старинный свиток Торы в позолоченном переплете. Лею пришли провожать все парни местечка: такой красавицы не видывали ни Литва, ни хваленая Америка, ни земля обетованная. Ничего не скажешь, Лее повезло: ее не расстреляли, ее не заставили перед смертью раздеться догола. Внуки и правнуки унесли ее на Детройтское клад-бище. Ицхак снова прислушался, но на сей раз он услышал не шелест листьев, не пересвист птиц, а веселый ор молодых жеребчиков, провожавших первую красавицу местечка в Америку: - Лея, Лея! Останься! - Лея, Лея,- повторил Ицхак пересохшими губами. Ицхак давно убедился в том, что, если хорошенько прислушаться, если выбраться из-под завалов случайных и неслучайных событий, застрявших в памяти, можно услышать и гул минувшего времени, и голоса покойников. Можно не только все услышать, но и увидеть, даже след журавля в небе, ибо все остается, все откладывается и запечатлевается, если любишь. Разве наша память - не любовь к тем, кто никогда не вернется ни на проселочную дорогу, ни на скамейку под липой, ни за сапожничий верстак, ни за свадебный стол? Ицхак сидел на скамейке и, не мигая, вглядывался в уже недосягаемую дорогу, пролегшую как бы по небу. Усилиями слабеющего, похожего на старый приемник с севшими батарейками мозга он настраивался на какую-нибудь отзвучавшую волну, пытаясь вернуть ей прежнюю чистоту, выталкивал из забвения кровоточащие куски жизни в надежде, что ему еще удастся сложить из них что-то живое - ну хотя бы пульсирующее, трепыхающееся, еще не отдающее тленом. Господи, как хорошо, что его друг и вечный собеседник Натан Гутионтов задерживается! Ничего удивительного. Пока приладит деревяшку, пока доберется до третьего номера троллейбуса, пока доедет до площади имени великого князя Гедиминаса (по его милости евреи и оказались шестьсот лет тому назад в Литве), пока перейдет через улицу, глядишь, час и пролетит, может, даже два. Главное, чтобы с ним ничего не случилось. Хватит с него и одного инфаркта. Вдвоем, конечно, веселей. Недаром они кучкуются все дни недели, кроме воскресенья. Хотя что это за кучка - пять-шесть человек?! Грамотей Моше Гершензон недаром сказал: "Вместе жечь костер воспоминаний приятнее. Каждый подбрасывает в огонь свою охапку хвороста. А у кого хвороста нет, тот на него дует. Подует - и пламя ярче". Какой хворост, такое и пламя, вздохнул Ицхак. Но, как ни крути, вместе лучше. Правда, бывает, и другу всего не расскажешь, даже дереву не поведаешь. Но разве молчание уберегает от пересудов и неприятностей? Ведь тебя слышат, даже когда ты молчишь. Ты молчишь, а твои мысли как на ладони. Ну, в первую очередь слышит Он, Господь, нас сотворивший, и записывает в свою книгу. А книга Его - без конца и края, страниц на всех хватит, Он никого не забудет. Слышат тебя и деревья, и этот вот замурзанный воробей, прыгающий в поисках крохи покрупнее от одной скамейки до другой, как евреи из одной страны в другую. И ветер слышит. Ничего не поделаешь, когда никого на свете не остается, поймал себя на мысли Ицхак, надо научиться жить в ладу и в согласии с ними - с листьями липы, с ветром, с этими замурзанными воробьями (ротный Тюрин называл их жидками). Не дай Бог, листья перестанут шуметь, ветер - ворошить седые патлы, воробьи чирикать! Моше Гершензон, выхваляющийся своей грамотностью, правду ищет в газетах. Кому что. Одному воробьи интересны, другому подавай наводнение или землетрясение, свадьбу английского принца или бунт в Китае. Моше Гершензон, между прочим, о китайцах все знает. Послушать его, так он в прошлой жизни был не евреем, даже не литовцем, а китайцем. Ицхак сам знал евреев, не желавших ими быть. Они во что бы то ни стало хотели быть русскими или литовцами. Кем угодно, но только не Ицхаками и Натанами. Но чтобы евреи рвались в китайцы?! Может, он, Ицхак, в прошлой жизни был серым воробышком, который прыгает от одной скамейки к другой и заглядывает ему по-братски в глаза, воробышком, никогда не служившим в уланах, не мерзшим в окопах под Прохоровкой и Алексеевкой, не привозившим никаких трофеев из Германии,- заурядной, как горошина, птичкой, у которой, кроме клюва, маленьких крыльев и маленького сердца, ничего не было? Да Бог с ней, с прошлой жизнью! Куда важней, кем судьба судила ему быть в будущей. Раз есть прошлая жизнь, то, наверное, и будущая каждому уготована. Не в раю, а на земле. Может, в том же городе Вильнюсе, где он, Ицхак Малкин, прожил почти полвека и даже изредка, до кончины Эстер, был глупо счастлив. Если бы Господь Бог, скажем, посчитался с его пожеланиями, то он хотел бы быть не китайцем, не русским, не евреем, не богачом, не властителем, а ветром. Ну, конечно, не всяким, а обязательно юго-западным, стужи на его веку хватило вдоволь. Разве можно для себя придумать участь более прекрасную: ветер никогда не стареет, его никогда не мучают никакие хвори, ветер - не еврей и не китаец, он ветер, для всех и для каждого. Умаявшись под вечер, он укладывается на ветки липы или на перистое облако, чтобы поутру проснуться и облететь весь земной шар. Мысль Ицхака металась между прошлым, настоящим и будущим, и всюду ей было неуютно, всюду она искала для себя покойную нишу, как ласточка для гнездовья. Она, его мысль, то втискивалась, как Натан Гутионтов в третий номер троллейбуса, в узкую, выбитую тележными колесами колею проселочной дороги, которая вела к его детству, к его молодости, то сверзалась в сырую траншею под русской деревенькой Алексеевкой, то на цыпочках входила в коридор Генштаба Второго Белорусского фронта с мундиром из английского сукна на руках, сшитым для командующего Рокоссовского, то вместе с могильной глиной падала в свежевырытую яму, где нашла свое упокоение Эстер. Прошло два часа, но Натана Гутионтова все еще не было. Чтобы избавиться от дурных предчувствий, Ицхак встал со скамейки и зашагал не по аллее Бернардинского сада, а по той проселочной дороге, пролегшей как бы не по земле, а по небу. Уже повеяло печным дымом - провозвестником жилья. Ицхак напряг глаза и всмотрелся вдаль. Клубы дыма вились над местечковой синагогой. Мало что вьется в памяти, подумал Малкин. Но разве рядом с молельней не осталось ни одного дома, ни одной литовской хаты с печью? Разве в них перевелись хозяйки, что-то варящие и пекущие? Это мертвые уже никогда не сядут за стол. Это расстрелянные в белой рощице не выковыряют ни одной изюминки, ни одной маковой росинки - их пироги и булочки сожрали равнодушные черви. Запах дыма Ицхак любил чуть ли не с колыбели. Ему нравилось, когда над крышами на рассвете зарождались верткие голубые кольца, поднимавшиеся к самому небу. Он, не отрываясь, следил за их причудливыми извивами. В непредсказуемом струении дыма было что-то загадочное, непостижимое, влекущее, как в речном зазеркалье. Однажды отец, сапожник Довид, сказал: - И наши души воспарят после смерти, как печной дым, и ангелы встретят их за облаками и на белых крыльях бережно унесут к сияющему Божьему престолу. С тех пор Ицхак верил (он эту веру сохранил и поныне), что, когда он умрет, когда умрут его близкие, их души совьются в легкие голубые кольца, воспарят к небосводу и будут долго плыть в утреннем мареве, пока не сольются с небесной синевой и не станут невидимой частью неба. С тех пор Ицхак верил, что холст неба и впрямь соткан из отлетевших душ. Правда, через много-много лет в гибельных окопах под Орлом он вдруг усомнится, сможет ли его вымокшая в крови, задубевшая на морозе душа воспарить в небо, ибо кровь и небо несовместимы. Малкин не мог взять в толк, кому понадобилось топить печь в пустой послевоенной синагоге, ведь в местечке не осталось ни одного еврея. Может, печь топится сама? Может, ее топит дьявол? А может, через трубу в небо взлетают, превратившись в дымки, души убиенных, и, пока они не поднимутся к Божьему престолу, труба будет дымить. Господи, сколько же еще лет, сколько веков?.. Вот воспарила к небесному престолу душа рабби Менделя, чистая, как зоревое облачко. За ней медленно вознеслась душа дяди Рахмиэля - балагулы, и вместе с ней - душа его лошади. Разве не похож вон тот дымок на ее гриву? Вон поплыла вверх душа волоокой Брахи, дочери мельника Гольдштейна, которая была влюблена в Ицхака по уши и которую своими запретами отец безвременно свел в могилу ("Выбирай его или мельницу!"). Вот поднялась к небосводу душа портного Шимшена Яновского, учителя Ицхака, знаменитого мастера и знатока Торы. Вот отправилась на свидание со Всевышним душа местечкового сумасшедшего Мотеле - тающий кренделечек синевы. Может, печь топит какой-нибудь доброхот - мало ли их на белом свете!литовец, поляк или старовер с густой, как чаща, бородой. Приволок бревно, распилил, наколол поленьев и развел огонь, чтобы всем было теплее - и мышам, и Богу, и душам перед тем, как они воспарят к Нему. Чем ближе они подходили к синагоге, тем суше и ровнее становилась дорога, пока совсем не влилась в мощенную булыжником улицу. Боже праведный, сколько раз он шагал по ней с бабушкой в молельню. Старуха, нарядная, непривычно торжественная, в цветастом, как весенняя поляна, платке, плетется, бывало, сзади, а он бежит впереди, первым распахивает дверь, взбегает по каменной лестнице туда, где молились женщины, и, притаившись в углу, ждет. Бабушка, близорукая, одышливая, оглядывается в испуге и взывает в пустоту: - Ицикл, солнышко мое! Ицикл, сердце мое! Никто и никогда на свете не называл его так ласково, так щемяще печально, как она. Ему казалось, пока его окликают с такой простодушной верой, с такой готовностью жертвовать собой, с ним ничего дурного не может случиться. Грамотей Моше Гершензон говорит, что нет на свете ничего страшнее того дня, когда, как Лея Стависская, забываешь свое имя. Лучше наложить на себя руки. Лучше в петлю... Не дай Бог забыть свое имя, ибо тот, кто его забывает, несчастнее, чем камень. А с камня какой спрос? Не успел Ицхак войти во двор местечковой синагоги, как у входа в Бернардинский сад замаячила чья-то фигура. К скамейке под липами не спеша, осанисто, как пава, шла немолодая женщина. В одной руке она держала большую казенную метлу, которая не только не портила осанку, но даже подчеркивала ее; в другой - такое же казенное ведро с помятыми боками и ржавым ободком, похожее на то, которое когда-то к задку своей допотопной телеги подвешивал дядя Рахмиэль. Ведро позвякивало в утренней тишине, и от этого глухого равномерного позвякивания Ицхаку казалось, что женщина идет не по аллее, а по выжженной пустыне за верблюжьим караваном, груженным серебром и златом, шелком и шерстью. Как ни странно, но образ пустыни частенько возникал в голове у Малкина. Может, оттого, что грамотей Моше Гершензон задурил им всем головы своими россказнями о древней Иудее, о царях иудейских. Каждый из них прошел через свою пустыню - только не было ни кладов, ни чудотворных колодцев, ни серебра, ни злата, ни шелков, ни шерсти. Слава Богу, хлеба хватило, и пуля миновала. Пустыня и сегодня велика и бескрайня, а их шаг ничтожен и мал шагаешь, и кажется, Бог весть, сколько отшагал, а оглянешься и увидишь: почти что с места не стронулся, впереди тот же зной, тот же песок, раскаленный от собственного бессилия. Женщина подошла и, крутанув бедрами, поздоровалась: - Дзень добры, пан Малкин. Як сон маш? - Дзенькую, пани Зофья, допуки жиемы. - Никого нема? - не то разочарованно, не то обрадованно пропела женщина.Навет пана Натана? Разговор по-польски давался Ицхаку нелегко, чужая речь утомляла его. Лучше, конечно, было бы говорить с пани Зофьей на идише. Но кто сейчас его знает? Было время - на маме-лошн нельзя было и слова сказать. Скажешь, а на тебя так посмотрят, как будто ты Богородицу обесчестил. А ведь каждому охота мяукать и чирикать по-своему. - Тшеба трохи одпочинуть,- объявила пани Зофья, еще не начав работу, и, не церемонясь, опустилась на скамейку. По правде говоря, Ицхак давно отвык от женщин. После того, как вторую его жену разбил паралич и ее отвезли в дом престарелых, он остался один. Женятся люди и в восемьдесят, и в девяносто, но Малкин сказал себе: хватит. Хорошее слово "хватит", не хуже, чем лекарство, хватит - каждый день по три пилюли. Что за радость, если рядом в постели мумия, как и ты, кресало и дрова отсырели, вздохами и храпом пламени не раздуешь. А если второй брак - ошибка, и вовсе худо. Корчишься в постели и затуманенной мыслью притрагиваешься к другой женщине, которая всю жизнь спешила навстречу к тебе с пирогами, у которой родинка на щеке сияла, как звезда на небе, а каждый ее волос привязывал к себе навсегда, как смерть. Над Ицхаком смеются, когда он говорит, что даже от ее брани пахло маком и корицей. Что с того, что у них не было детей. Мало ли у кого на белом свете нет детей! Беда, когда король и королева бездетны - у них обязательно должны быть наследники. И потом, что такое вообще дети? Вещи, взятые на время в долг: сына одалживаешь у невестки, а дочь - у зятя. Отдал - и не проси обратно. Даже если те их вернут, то ты получишь их не такими, какими они были. - О чим пан тэраз мисле? - неожиданно и, как Ицхаку показалось, чересчур кокетливо спросила пани Зофья. - О жене. О первой жене,- поправился он. - Пан ее любил? Она давно умерла? - Она никогда не умрет. Мы только что вошли во двор синагоги. В местечке над Вилией. Мы там с ней под хупой стояли. Пани что-нибудь слышала про хупу? - Так,- не задумываясь, ответила уборщица.- Я сама мечтала о хупе.- И, как бы испугавшись своего признания, продолжала: - Пану подобёнся польки? Ему было неловко от ее вопроса. Листьев за ночь намело в Бернардинском саду уйму - ветер озоровал до утра. Пани Зофья хоронит их каждый день: онамогильщик облетевших листьев,- либо закапывает их, либо сжигает на пустыре. Он в детстве слышал, что когда придет Мессия, то из могил восстанут не только люди, но и животные, оживут увядшие растения, воскреснут опавшие листья. Ветер, который всегда возвращается на круги своя, развесит их там, где сорвал, и все снова встретятся: и листья, и ветер, и одноногий парикмахер Натан Гутионтов, и Эстер, и грамотей Моше Гершензон, и рабби Мендель, и пани Зофья, и все братья Малкины, и обретшая память Лея Стависская,- и все начнется с начала, с первого крика, с колыбельной... - Нех пан не муве, же не подобёнся. Вам они завше были до густу. Фремде вайбер - зисе вайбер (чужие женщины - сладкие женщины). - Ты говоришь по-еврейски? - остолбенел Ицхак. - А бисэлэ,- сказала пани Зофья и показала ему кончик заскорузлого мизинца. - Кто тебя научил? Может, отец был евреем? - Отец был подпоручиком в Армии Крайовой, а мать - учительница польской гимназии. Лучшая учительница, пан Малкин,- любовь. Мой Яцек называл меня ночной еврейкой,- сбивчиво, почти захлебываясь, прошептала пани Зофья. - Ночная еврейка? - пробормотал в замешательстве Малкин. Впервые за тридцать пять лет ему захотелось затянуться дымком. Он огляделся, метнул взгляд под скамейку, увидел смятый окурок, устыдился своего желания и снова уставился на пани Зофью. На вид ей было лет шестьдесят, не больше. Крашеные, словно остекленевшие волосы, напоминавшие жнивье, не молодили ее, а старили. Продолговатое, еще миловидное лицо было вспахано преждевременной старостью: неровные бороздки морщин тянулись по щекам вниз, к полным затаившейся страсти чувственным губам, которые она то и дело покусывала от волнения. На ней было грубое платье, какие обычно носят больничные санитарки. Дешевый ситец облегал ее еще задорные груди и бедра. Единственным украшением были большие цыганистые серьги, от которых исходило неверное сияние. - Настоящее его имя было Йосель. Йосель Копельман. Может, слышали такую фамилию? На своем веку Ицхак не раз слышал фамилию Копельман. Один из них - сержант Зелик Копельман - погиб под Алексеевкой. Шальная пуля попала ему в голову, когда он, хлебая солдатский борщ, рассказывал возле полевой кухни про хелмских глупцов. Мертвое лицо было растянуто в улыбке. Его так и похоронили. Малкин смотрел на нее и диву давался. Надо же, ходит рядом с тобой человек, ты каждый день видишь его, но знать не знаешь, ведать не ведаешь, кто он и что он. То ли святой, то ли мерзавец, то ли мученик, то ли мучитель. Все у него как бы под замком - стучись не стучись, ни за что не откроет. Что говорить о других, если к самому себе до гробовой доски ключа не подберешь, а, не ровен час, откроешь и содрогнешься. - Днем я была полькой... работала посыльной в тогдашнем магистрате, всякие бумажки разносила. А ночью... ночью бегала в гетто, к своему Йоселю-Яцеку. Дура была, ох, какая дура! - едва сдерживая скорые бабьи слезы, сказала она.
Похожие книги на "Парк забытых евреев", Григорий Канович
Григорий Канович читать все книги автора по порядку
Григорий Канович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.