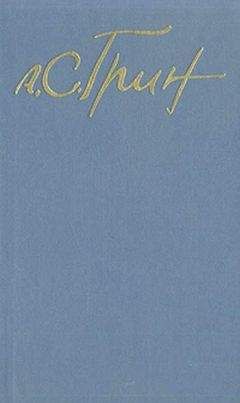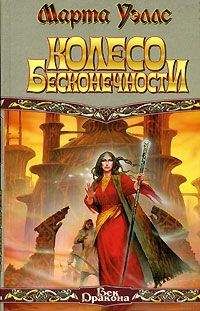IБезоблачный жаркий день достиг силы коротких теней, болезненной зрению белизны стен и полного воздушного оцепенения, стесняющего разгоряченное дыхание. Белые, красные и голубые зонтики утомленно порхали над толпой извилистых улиц маленького городка Италии — Сан-Амиго, празднующего хороводную неделю веселого карнавала, установленного для этого городка с незапамятных времен неким историческим событием, сущность которого давно перешла в легенду, обтрепалась и напоминала собою одно из тех выцветших, убогих знамен, сложенных в передней музея, бессильных оживить своей истасканностью память любопытного современника, относительно присущих им сражений или подвигов.
Расположение улиц Сан-Амиго напоминало колесо, лишенное обода. Ступицами были улицы, идущие от центра — оси — к предместиям. В протекающем полуденном часе по каждой из этих улиц, к оси колеса, — небольшой, но величественной, благодаря высоте окружающих ее старинных зданий, площади, — двигались вереницы феерических экипажей, покрывая грохотом колес забавный стон толпы, разряженной в костюмы всех времен и народов, даже таких, какие могут населять только страны воображения. Самые диковинные фигуры господствовали среди повозок и высоких платформ, производя впечатление, как если бы войско чудовищ вступало после нелепого, заоблачного сражения в покоренную область. Там высился людоед, берет которого плыл наравне с балконами третьих этажей, а в его пасти среди картонных зубов плясали толстопузые мальчишки; здесь — треща крыльями, проталкивался дракон, пестрый, как бабочка, и страшный, как ад в мысли натуралиста; там везли кита; здесь — слон, с подвыпившими, в фигурной башне, остекленелыми шалопаями, трубил скрытым тромбоном; далее — ряд страшных голов на общем туловище покачивался с ужасной выразительностью неодушевленных фигур.
Другие процессии составлялись из костюмированных групп, пирующих среди возвышений, убранных атрибутами их идеи. Вакханки из фабричных кварталов, сверкая неподдельно пышными икрами, плясали вокруг Вакха, плавающего в кокетливых джунглях серпантина. Рой обезьян, с белыми носами среди коричневых морд, визжал и скакал в клетке, бесполезно укрощаемый сверху ударами турецкого барабана. Какие-то супостаты, в полумонашеских, полуклоунских одеяниях, ворочали посудой на кухне, блистающей паром и бенгальским огнем, давали концерт посредством тазов и сковородок, выкрикивая малопристойные изречения. Черти с рогами везли повешенных за языки грешников. Ангелы завивались в парикмахерской у ослов. Экипажи в цветах, лентах и золоченых бусах, с массой хорошеньких женских головок: хоры музыки; отряды ландскнехтов и рейтаров; процессии великанов и карликов — и все другое в этом роде, что было бы утомительно ловить целиком в сети подробного описания, — двигалось, приплясывая и свистя, в облаках цветной муки и конфетти, — к площади, где уже восседало подвыпившее жюри, призванное отличить самый интересный выезд почетной наградой. То был карнавальный кубок — премия, переходящая из года в год к новым рекордистам маскарадной изобретательности.
Толпа потела и зубоскалила. Это был один из тех редких дней, когда разнородности существований, — основа жизни, — отбросив укрепляющую жестокость повседневной борьбы, образуют добровольное государство возвеличенного каприза. Есть вещи, — явления, бесполезные в истинно хорошем значении этого слова, но более соединяющие людей и общенужные им, чем все рогатки приказывающей, доктринерской мысли. К ним принадлежат любовь, гримаса и сказка. От них следовало бы танцевать плакальщикам социальных водоворотов.
IIЧаса за два перед тем, как мы с читателем начали осматривать Сан-Амиго, в небольшом доме, стоявшем несколько поодаль за фабрикой сигарет, собралась костюмированная компания, преследовавшая, по-видимому, те же невинные цели, иными воплощениями которых наполнились уже веселые улицы.
Однако было нечто угрюмо мрачное в замысле экипажа и костюмах участников. Три черные лошади были запряжены цугом в продолговатую платформу на колесах, с возлежащим на сей платформе огромным рогом изобилия, черным, как и все в этом сооружении, с пастью, обращенной вперед. Из него сыпались картонные белые черепа, скрепленные проволоками, образуя противную груду отвратительного подражания устрашающему в природе. На высоком передке сидел возница, сравнивая и перебирая вожжи. Все это находилось внутри цветущего двора, под снегом апельсинного цветения.
С крыльца, укрытого пышной зеленью, сошли двое: молодой человек и совсем юная девушка. Все трое, считая возницу, были одеты в черные трико, широкие, густо накрученные пояса и плащи с капюшонами. Мрачная чернота этих одежд придавала описанному трио полумонашеский, полуразбойничий вид; однако, в силу разницы полов, впечатление это следовало отнести более к мужчинам, чем к девушке, тонкое прекрасное лицо которой, серьезное, как на молитве, выражало трогательное, сдержанное волнение. Возница был румян, рус и кудряв; несмотря на это, — нечто неуловимо сдвинутое в его лице, какое-то ничтожное несоответствие черт с веселыми красками молодости, — делало его лицо вызывающе жестоким и наглым. Молодой человек, вышедший с девушкой — ее родной брат, — был худ и землист лицом; его сдавленный, упрямый лоб накрывал редкими бровями широко раскрытые, как бы оцепеневшие глаза.
Ничтожная бородка и такая же тень первых усов еще более оттеняли болезненность и нервозность костлявых черт.
— Да, Либерио, — сказал он вознице, — с таким рогом нам нечего надеяться получить приз. Мы сами выдадим премию кровопийцам и толстобрюхим. А ты, Эмилия? Не боишься ли ты?
— Нет, — сказала девушка после короткой паузы. — Ну, что же?! Мы обо всем переговорили. Надо ехать, Карло.
Карло кивнул. Затем, нагнувшись к повозке, он ощупал, в глубине бумажных черепов, три тяжелые, жестяные коробки и, удостоверясь, что им не угрожают толчки, занял место впереди экипажа.
IIIЛюди эти были — анархисты, задумавшие безумное дело среди шума и пестроты праздника. Они намеревались бросить три бомбы на эстраду жюри, состоявшего главным образом из членов магистрата, художников и торговцев. Рассматривая карнавал как сборище праздных, насквозь пропитанных предрассудками «собственности и мещанской морали», людей в момент их ликования, поэтизирующего основы ненавистной, старой жизни, заговорщики сочли весьма эффектным и действенным поразить город паникой при наибольшем числе зрителей, отдавшихся без подозрений веселью. Это была так называемая «пропаганда фактом». Их мрачный выезд, символизирующий щедрость смерти, способствовал, по мысли организаторов, силе впечатления от их поступка.
Здесь, карнавал как бы поражал сам себя, выделив зловеще оригинальную колесницу. Либерио и Карло были душой замысла; что касается Эмилии, то она присутствовала третьей по жребию, действующему иногда не так слепо, как кажется. Фанатизм мужчин, кроме разрушительных наклонностей их, вытекал из странного, игрушечного представления о природе и жизни, в которых грубый и неподвижный ум, отталкивая неизмеримую сложность явлений, видел лишь застывшие формы предметов, подлежащих перестановке. В значительной степени примешивались сюда романтизм и тщеславие и еще, несомненно, навязчивая идея крови, страшная по существу, но именно этим ослепляющая их, создавая фикцию дела огромной важности.
Нам незачем более вникать в этих людей, напоминающих неопытных изобретателей воздушных аппаратов, бессильных, как механизмы. Перейдем к девушке — героине этого дня.
IVЭмилия родилась и выросла в семье отшельнической, занявшей, по отношению к жизни, роль печальной, но самовлюбленной избранницы. Ее отец был политический эмигрант, радикализм которого при новом курсе оказался в глазах новой власти терпимым. Карино вернулся на родину.
С дня рождения жизнь девушки протекала, так сказать, в семейно-политической атмосфере, насыщенной воспоминаниями, легендами, благоговением перед прошлым отца и преданностью матери, не оставлявшей своего мужа в самых тяжелых испытаниях. Пяти лет дети пели уже революционные песни. Дом часто посещали старики и старухи, такие же седые и отсталые во взглядах, как и хозяин, — знаменитости революционных кругов, живые памятники прошлой борьбы. Имена их произносились с ревнивым почтением. Они беспрерывно толковали о вопросах государственной жизни, и разговоры эти год за годом наслаивали в душу девочки сознание наследственности — преемственности ее будущих убеждений.
Система строгой тенденции проводилась воспитанием. Их детские книги сыпали описанием подвигов и поступков высоконравственных. Сказки преследовались.