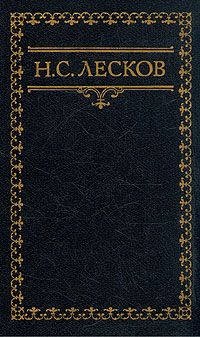Николай Лесков
Ум свое, а черт свое
(Из гостомельских воспоминаний)
Знает все только грудь да подоплека.
Русская поговорка
Не только у нас на гостомельских хуторах, а и в целом округе, вплоть до самой до Рыбницы, не было такой красавицы, как Паша. Что это была за прелесть такая! Высокая, стройная, лицом белая, глаза голубые, как небо, брови соболиные, волосы густые черные, а грудь… Бывало, как наглядишься днем на эту грудь, так голова и пошла ходить ходором, и спать хоть не ложись. Уж на что, кажется, хорошее средство столбы в уме считать, если не спится, а тут, бывало, и это не помогает.
Кому только она сухоты не надала! Деревенские парни на нее зарились, да только они скоро отходили, потому что им сенная девка не к руке, а прочие так просто пропадали за ней.
Кучер был у одного соседнего панка, Дмитрием его звали. Русый, красивый и рассудливый был парень, а через нее так и погиб ни за что, ни про что. Начал пить; сперва свое все пропил, а потом и за господский ковер как-то зацепился. Прогулявши ковер, вернулся к панку, повинился во всем и говорит: «Не отдавайте меня под суд. Какая вам корысть из суда? Пустите меня в солдаты наняться: хочу служить Богу и великому государю, а вы деньги себе возьмите».
Панок у Дмитрия не лихой был человек, начал его отговаривать. «Что ты!» да «Бог с тобой! Бог тебя простит», – ничего не помогло. Мать старуха в ногах у него валялась полчаса, и руки-то у него целовала, и волосы-то свои седые показывала, – нет! Зарядил свое: «Хочу служить Богу и великому государю». На своем и поставил.
Как обрили ему лоб в рекрутском присутствии, мать так и обмерла, а он только сказал: «Поклонись, матушка родимая, Прасковье Егоровне». Когда угнали сына, старуха вернулась и таково-то кляла Пашу, что и Боже мой! Через годок захворала она, и конец ее пришел, так со всеми простилась, а на Пашу как взглянула, так и язык у нее отнялся. Так и умерла, не простивши ее. А Паша, по правде сказать, чем была виновата? Она сама этой беде была не рада, сама плакала и на духу просила наложить на нее епитимию, а не могла полюбить Дмитрия. Что ж ты прикажешь делать? Да что Дмитрий! Не один Дмитрий от нее плакался. Мельник тоже был у нас из мещан, по соседству тут мельницу держал у одного панка; человек был молодой и зажиточный и из себя хороший; тоже, бедняк, чуть не пропал. Жена ходила во Мценск к Николаю угоднику, и даже Балыкинской Божией Матери три молебна на свои трудовые деньги отслужила, а в семье все тот же ад кромешный стоял. Голову потерял мельник, жену возненавидел и на детей уж не смотрит, словно они ему не дети, а щенята какие.
– Все брошу, – говорил он Паше, – только пойди со мною. Либо откупись, я тебе денег дам; либо бежим: у меня в Одесте есть приятели – никто нас не найдет.
Думала, думала, мельник ей по сердцу был, а напоследок и сказала: «Нет, не хочу греха принять на себя с женатым». Греха этого очень она боялась, а то бы чего! Один также панок у нас был, так он ей и на откуп денег давал, и дом на Курском шоссе обещал купить, так тоже, куда тебе! и не говори. Очень уж греха боялась и рассудок к тому же имела у себя немалый.
Ночью зимой, бывало, подъедет этот панок на тройке; сани с ковром; целковый давал, чтоб только вызвать ее кататься с ним. И ничего, она, бывало, и ходила, и каталась с ним. Любила шибко ездить: все, бывало, кричит кучеру: «Пошел, да пошел!», а не то возьмет кнутик, да сама пристяжную и поджигивает. Другой же раз смирно сидит и только в шубку уворачивается да вдаль в белое поле смотрит. Очень хорошо бывает у нас на полях, когда они все так и блестят белым снегом по месяцу. Раз она загляделась на эти поля и не слышит ничего, что панок бормочет ей на ухо про свою любовь, а он подумал, что она это нарочно молчит, да сразу и поцелуй ее в щеку. Что ж вы думаете! Ведь такую оплеушину ему свезла, что чуть из саней не вылетел. «Ты, – говорит, – языком болтай, я тебе не мешаю, а с рылом не балуйся».
Такая была смелая! Люди говорят: на чьем возе едешь, того и песенку пой, а ей все это было нипочем.
Присватался было к ней жених, человек такой, что ничем его покорить нельзя, кажется, было: и умный, и молодой, и жалованья одного на заводе две тысячи брал; только был он из немцев, ну, и опять не пошла. И уговаривали ее, и резоны всякие приводили – не идет да и баста. Напоследок пани что-то на ум пришло; женщина она была опытная. Посадила она немца за чай и позвала к себе Пашу.
– Послушай, – говорит, – Прасковья, может, у тебя есть что такое на совести; может, ошиблась как, оступилась: он на тебе этого греха искать не станет.
А она, услыхавши эти слова, как плюнет и перед панею и перед женихом:
– Тот, – говорит, – еще не родился, чтоб меня в грех ввел, а я не хочу с тобой, с немцем, поганиться – вот тебе и сказ. – Как топором это отрубила, хлопнула дверью и ушла.
Силу она большую имела и в душе, и в теле. Ну, а послушайте теперь, что за оказия диковинная вышла из всей этой силы.
Была тоже тут по соседству одна пани, Рощихой прозывалась, и был у нее сын, обучался в университете. Пашиной пани он доводился крестником и, бывало, как приедет домой, так не столько у родной матери, сколько у крестной. Пашина пани была бездетная, ну, и баловала крестника, а известно, какая молодежь: где ей вольнее, туда она и гонится.
Приехал этот Рощихин сын и попал в ту же беду, как и все. Смерть ему полюбилась Паша: не ест, не пьет и во сне ее только видит. Не вытерпел, наконец; открылся ей в любви, а она захохотала. Словно ей приятно было смотреть, как он по ней мучится, и она его, словно как на зло, еще заводить стала. Заведет с ним разговор, как люди любятся, как друг из-за друга страдания всякие принимают, а потом вдруг скажет:
– Э! да не мое холопское дело толковать с вами о таких материях, – и уйдет. А чего холопское дело! Она никого не боялась и самой пани, бывало, такие-то бо-мо отпускает, что все только дивились, как та все это терпит.
И вымучила же она его! Просто парень ума рехнулся. Сначала тосковал все, потом бесился, все рвал и метал, а тут уж только уткнется головой в подушку, да и рыдает. Что ты с нею, с любовью-то поделаешь? Она ведь Сампсона, библейского силача, и того остригла.
Раз так-то плачет Рощихин сын, а Паша и входит.
– Встаньте-ка, – говорит, – я оправлю вашу постель.
А он, горький паренек, вскочил, да и бросился перед ней на колени. Вот ведь до чего довела!
Что ж вы думаете? Ведь и тут расхохоталась. Ну а он, как услыхал ее смех, зарыдал и прижал свою голову к ее коленам.
Не то ей уж жаль его стало, не то он полюбился ей в эту минуту, только она перестала смеяться и лоб наморщила.
– Параша! душечка! не губи ты меня, – просил Рощихин сын. – Я у тебя, как собака, валяюсь в ногах. Смерть моя от тебя. Пожалей ты меня; полюби меня!
– Полюбить? – спросила она его, сурово на него глядучи.
– Да, полюби, Паша!
– Полюби, Паша! – повторила она его, не то невзначай, не то как дразня его еще больше.
– Радость ты моя! полюби, – все он ее просил.
В устах у него совсем перемягло. Смотрит он ей в глаза, а она молчит. Схватил он ее руки и ну их целовать. Она сначала было отдернула свои руки от горячих уст, а потом ничего: глядит только, как он у ее ног словно голубь подстреленный бьется.
Наклонилась к нему немножко и шепотом спросила: «Любишь?»
– Ох, люблю, Паша!
– Крепко любишь? – опять она спрашивает.
А он уж и слова не выговорит и руки-то, и колена-то ей целует. Смерть ведь эти поцелуи! Душа в них; так бы и умер, целуя. Недаром «жар крови» на барометрах высоко пишут. Как задурит эта кровь, так, Боже мой, что тут бывает! Страхота!
Каторжная сила была у этой девки, а и у нее колена будто как дрогнули. Да и только зато и было, что колена дрогнули.
Насладилась она его муками, точно как иная барышня, да и махнула на него холодной водой.
– Полно, – говорит, – вам шалить, руки-то грязные целовать, что тазы выносят.
Так ведь два года он приезжал, и все она его маяла: ни ответа ему, ни привета от нее не было.
Письма он ей писал на имя дьяконской дочери. Та, бывало, читает их Паше, так сама плачет, а Паша только брови хмурит.
– Что ты над ним мудруешь? – говорит дьяконская дочь. – Ведь он тебя любит.
– Любит и пускай любит.
– А ты его не любишь?
– Он мне не ровня.
– Он ведь жениться согласен.
– Я не пойду.
– С чего не пойдешь?
– Он мне не ровня.
– Глупая! Что тебе ровня, коли любит? Где ровню-то нам искать?
– И не надо.
– Ой, гляди, девка!
– Авось-небось, – смеясь отвечала Паша.
Тем временем от Рощихина сына письмо пришло, что нашел он себе невесту и просит у матери родительского благословения, а через месяц сам приехал и портрет невестин привез.
– Что? – говорила с укором дьяконская дочь Паше.
– Что? Ничего, – отвечала Паша.
—
У нас, на Гостомле, летом бывает очень хорошо, особенно когда сирень цветет. У нас уж такое заведение по хуторам, что сирень садят под самыми окнами; так она, как распустится, так и лезет в комнаты. Воздух тоже в это время бывает у нас хороший, и жить в это время очень хочется. Природа у нас здоровая, сильная: долго стоят холода, а уж как пройдет холод, как начнет все разворачиваться, так только забирай. Одно за другим зреет, одно за другим падает.