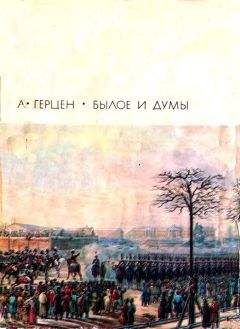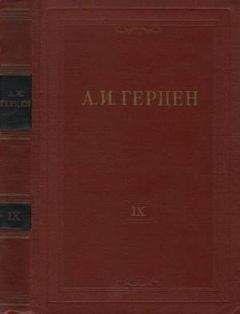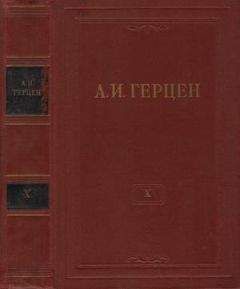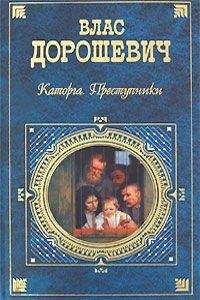Это было в поездку между Веной и Подволочиском.
По всей Европе вы летали с экспрессами, носились, как вихрь, — от Вены к Подволочиску поезд идёт медленно, словно нехотя, — и колёса стучат:
— Читайте! Читайте!
Во всех купе читают, читают жадно, глотают, захлёбываются и, не доходя Подволочиска, из всех почти окон полетят русские книги, брошюры, листки.
Обе стороны полотна усеяны книгами. Жителям Подволочиска есть из чего свёртывать папиросы! Если бы они захотели, они могли бы составить себе огромнейшую библиотеку.
И что за странная была бы эта библиотека!
В ней «Былое и думы» Герцена стояли бы между сборником порнографических стихов и книжкой какого-то полоумного декадента, который вопиет:
— Разве террор для террора не полон уже, сам по себе, красоты и величия?
Порнография, дикий, кровавый бред и благородные мысли, — всё свалено в одну кучу!
В этом «читательском поезде» я познакомился с Герценом.
Уже от предисловия «С того берега» кровь бросилась мне в голову, слёзы подступили к горлу.
Передо мной открылся новый мир, как открывается новый мир всегда, когда вы открываете гениальную книгу.
Передо мной, счастливым, радостным, взволнованным, вставал, в величии слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художник — умерший, бессмертный.
Какое благородство мысли, какая красота форм!
И эту книгу я должен буду выбросить перед Подволочиском в окно, как порнографическую брошюру!
Из-за чего?
Разве мир не шагнул вперёд за те тридцать лет, как умер А. И. Герцен?
Разве не многое из того, что осуждал он, осуждено уже историей?
Разве во многом его книги не обвинительный акт, по которому уже состоялся обвинительный приговор истории?
Из-за чего же?
Неужели из-за рассеянных там и сям личных нападок, которые, потеряли теперь уже весь свой яд, потому что те, в кого они были направлены, уже давно померли?
Да разве ж в этих резких строчках Герцен-мыслитель, Герцен-художник, Герцен-великий патриот, отличающийся от патентованных патриотов тем, что он любил свою родину просвещённой любовью?
Разве этот великий ум, благородное сердце, великий мыслитель, несравненный художник, друг и поборник всего прекрасного, волнующий кровь благороднейшими желаниями и наполняющий ум благороднейшими мыслями, опьяняющий любовью к людям, не был бы Герценом, если бы из-под его пера не вышло нескольких обидных для личности строк?
Разве в этих строках весь Герцен?
И перечитав ещё раз, на прощанье, предисловие «С того берега», я с завистью подумал о том потомке, который будет, счастливец, свободно воспитывать свой ум и своё сердце на Герцене и читать его так же невозбранно, как читаем теперь князя Мещерского и «раскаявшегося» господина Тихомирова.
Но поезд подходил к Подволочиску, я отворил окно, — простите сентиментальность, поцеловал книгу, зажмурился и выбросил её в окно.
Зажмурился, — потому что и теперь, через много лет, один на один с самим собою, я краснею при этом воспоминании.
Так тяжело уничтожать книгу, конечно, если не занимаешься этим специально. Словно убиваешь человека. Хуже! Убиваешь лучшее, что есть в человеке, — мысль. Сотни тысяч людей прочли бы эту книгу, эти мысли, эти чувства, — и ты отнимаешь у сотен тысяч их достояние.
Я выглянул в окно. Книга белела около полотна, вдали. Она осталась по ту сторону границы.
Бедный Герцен!
Окружённый поклонением, славой, он так тосковал, так страстно, безумно тосковал по своей бедной, занесённой снегами родине.
И через тридцать лет он не может вернуться на родину.
Теперь, когда много приговоров пересмотрено историей, о нём приговор ещё не пересмотрен.
Добиться пересмотра этого приговора. — какая достойная цель для отделения словесности Академия наук!
Пусть к нам вернётся хоть только то, что было вечного и бессмертного в Герцене.
И останутся даже по ту сторону границы те вспышки раздражения, значение которых умерло вместе со смертью людей, на которых они были направлены.
Пусть отделение словесности Академии наук любящей и осторожной рукой коснётся Герцена и вернёт России её достояние.
Герцену время вернуться из Европы.
Его мать, его страна, любимая и любящая, тоскует и ждёт своего великого, своего бессмертного сына.
И втихомолку плачет о нём сегодня, в годовщину его смерти, от тяжести двойной разлуки.
Однажды человек пришёл к человеку и сказал ему:
— Ведь, я тоже человек!
Начало легенды «о властителе всей Индии и самом последнем парии».
Камин полыхал.
Пламя охватывало исписанные листы бумаги, — и по стенам тёмной комнаты дрожал его красный отблеск.
Красный, кровавый, зловещий.
Словно отблеск сатанинского пламени.
Словно кусочек ада бушевал за железной решёткой камина.
Перед камином, сгорбившись, сидел Человек, жалкий, великий, несчастный, избранник небес, измученный и властитель душ.
И ему казалось, что это не пламя берёт и уничтожает исписанные листы, — что сатана схватывает каждую строку.
И он, с ужасом глядя на огонь, шептал тонкими, бледными, дрожащими губами:
— Оставь меня, сатана!
А сатана был кругом, везде.
Сатанинские слова чернели на белой бумаге.
Сатана был в нём самом, наполнял его душу.
Человек глядел на горевшие листы.
Знакомые имена, слова ярко освещались огнём и исчезали в пламени.
Сколько минут смеха, веселья, вдохновенья, — сколько сладких минут творчества и радостных, подступавших к горлу, слёз — исчезало в огне.
И Человеку было так страшно, страшно жаль этих горевших в огне листов.
Жаль этих сатанинских писаний.
— Отступись, отступись от меня, сатана! — шептал он, с ужасом чувствуя, что жалеет горевшие листы.
И, борясь с грешной жалостью, он вызывал образы милых, добрых, праведных, благочестивых людей, которым будет радостна гибель творений сатаны.
— Я возрадуюсь с вами, любимые мои!
И они проходили перед ним, со смиренными лицами, пахнущие немного ладаном, немного деревянным маслом.
Человек улыбался им, они были милы ему.
И что-то забавное сквозило в их милых чертах, в их постных фигурах.
Словно умилённые просвирни!
Как забавны, как комичны они, с их ханжеством, с их перепуганными лицами, с их маленькими, куриными мозгами.
Как жалки, как ничтожны!
Как милы и ничтожны!
И они обращались в художественные образы, забавные, жалкие, смешные, — и Человек улыбался, думая о тех курьёзных фигурах, которые он создаёт из них.
И он задрожал всем телом, поймал себя на этих мыслях, на этом смехе.
— Оставь, оставь меня, сатана!
А из тёмных углов комнаты, освещённых дрожащим красным полымем камина, — выходили фигуры карликов, маленьких, несчастных, оплёванных.
Они имели вид уничтоженных, жалких людей.
Шёл городничий, и мундир висел на нём, как тряпка, шпажонка болталась и путалась сбоку. Ноздрёв имел сконфуженный вид. Манилов со слезами на глазах вёл за руку жену, не смея взглянуть на неё от стыда. Собакевич не знал, куда девать глаза. Бедняга мичман Жевакин не мог найти себе места.
И эти маленькие люди подошли к большому, к великому Человеку и подняли на него глаза и сказали:
— Ведь мы тоже люди! Разве виноваты мы в том, что мы пошлы, глупы или ничтожны? Мы не виноваты в этом! Мы жалкие и несчастные, — но братья твои. А ты, ты, великий человек… Как орёл, парящий в небесах… Что ты сделал для нас? Ты осмеял нас, ты с хохотом остановился над нашей скудостью, над нашим убожеством. Ты пригвоздил нас страшным и жгучим словом твоим. Пусть все, пусть весь мир хохочет над жалкими братьями твоими! Ты бичевал нас смехом твоим!
И жалкая толпа оплёванных людей стояла перед великим человеком и с укором, со слезами глядела на него.
— Всё, всё обнажил! До стыда, до боли обнажил! — раздался болезненный, мучительный крик из толпы.
И великий человек с ужасом смотрел на толпу маленьких, людей.
Он узнавал их.
Узнавал каждого из них.
И мало-помалу их огорчённые лица начинали казаться ему забавными.
Городничий смотрел сокрушённо.
Великому человеку показалось, что Сквозник-Дмухановский сейчас скажет:
— Чина, звания не пощадил!
Но с уст городничего вырвался такой глубокий, такой человеческий вздох.
Старик Иван Иванович смотрел укоризненно.
Казалось, он скажет сейчас:
— А что касательно будто бы Гапки, милостивый государь мой, сие, как персонально чести моей касающееся…
Но по его старческим щекам текли слёзы, а дрожащими губами он прошамкал:
— За что-с? За что?
И Человек в ужасе, в ужасе от смеха, зазвучавшего было снова в его душе, вскочил: