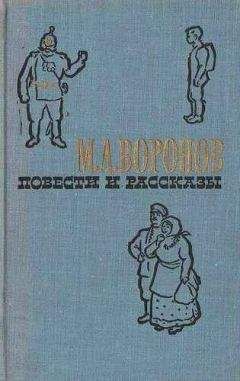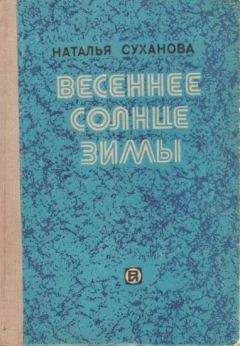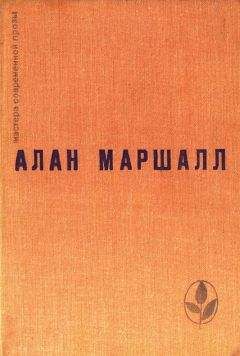Михаил Алексеевич Воронов
Деревенская почта[1]
Весеннее солнце исправно-таки делает свое дело. Под его лучами скорехонько разрыхляются и тают наметенные в долгую зиму великаны-сугробы, оголяются до земли, с каждым днем все больше и больше плешивея, пригорки и изволочки, не десятками — сотнями всюду плодятся лужи и колдобины, и, точно вырвавшиеся из тяжкой неволи, с глухим говором катятся веселые ручьи, пенясь и увлекая всякую мелочь, какая попадается на пути. Через неделю пасха красная…
Весна разбудила даже Бутырскую слободу, долго и мирно спавшую под своими снеговыми сугробами. Куры закудахтали, захрюкали свиньи, с огородов и полей потянуло запахом навоза. Вечерами загудели гармоники и полились песни; уличная жизнь развернулась, стала люднее и шумнее; даже самый свисток на гвоздильном заводе играет сбор на утренней заре как будто радостнее, гулливее, а не по-зимнему, хрипло и жалостливо. «Благодать, мать честная!» — умиляясь, вопиет чумазый, как эфиоп, гвоздильщик, шваркая шапку оземь.
Пришел понедельник страстной недели, и кончилась работа на гвоздильном заводе. Рабочие получили из конторы завода расчет («дачку», как говорят они), — получили и заволновались. Одни потянулись в баню, другие торопятся сборами, чтобы поскорее схлынуть в деревню, третьи не меньше торопятся закупить и послать с земляками домой «гостинцы», четвертые столь же торопливо спешат к дядюшке Ипату и подобным ему благодетелям «обмыть дачку», пятые уже «обмыли», разнемогли и, словно ветром колыхаемые, шатаются из стороны в сторону, оглашая невинную улицу самыми ожесточенными ругательствами. Болит, ноет сердце будочниково при виде такой неурядицы: «Ох! не накласть ли?» — сжимая персты, думает он свою вековую административную думу.
— Герасим, а Герасим! Ты бы хоть бога побоялся, каторжная твоя душа! — кричит какая-то молодая бабенка, полуотворив кабацкую дверь и всунувши голову в щель.
— Прочь! — вырывается из кабака возглас в ответ. Женщина минуту стоит в размышлении.
— Ну, ежели не для меня, так хоть для родителей для своих… для дней этаких страшных… Гарася! Подь-ка, милый, что я скажу, — на все лады пытается она выманить своего несговорчивого Герасима.
Но Герасим упорно твердит «прочь!» и остается непреклонен и к проклятиям и к мольбам, так как влил уже в себя целых пять «махоньких», почему ему теперь не до родителей и страшных дней: он весь отдался увлекательному рассказу о том, что бы из него вышло, если бы да ему, Герасиму, вместо того чтобы «тянуть проволоку» на гвоздильном, пришлось бы пойти «по машинной части».
— Распьянюга, пьянюга ты подлая! Тьфу! — постояв некоторое время в ожидании, плюнула наконец молодица и, с сердцем хлопнув дверью, побежала вдоль улицы.
Перебежав три-четыре домика, она повернула в какой-то двор и затем шмыгнула в низенькую дверь кособокой избенки, ютившейся в самом дальнем углу этого двора. В избе в первую минуту трудно было разобрать что-нибудь: таким густым облаком стоял в ней табачный дым и так мало света давало единственное оконце, маленькое, запачканное и вдобавок пробитое как-то не у места.
— О, черти, трубокуры! Ишь как накурили: до тошноты инда! — кашляя, выбранилась бабочка и сбросила платок с головы.
— Ну, что? — разом спросили ее несколько голосов.
— Известно, что. Разве с вашим братом, с дьяволом, сообразишь, когда вы бельмы-то нальете!
— Погоди, Никифоровна, мы и без того сдействуем в настоящем разе, — послышался еще чей-то голос. — Ты только говори, как тебе писать: в строгости али по-любезному? — утешал Никифоровну, как оказалось, писарь, уже сидевший за столом в ожидании работы. Перед писателем лежал сложенный вдвое полулист писчей бумаги и стоял пузырек с чернилами и воткнутым в него гусиным пером; тут же стояла опорожненная косушка и рюмка.
— Так как же? — вопросительно возвел на Никифоровну писарь свои очи.
Молодуха села к столу, подперла ладонью щеку и задумалась.
— Ох, да что я! Разве нам в строгости-то можно писать, когда письмо пойдет к Герасимову отцу с матерью? — надумала наконец она. — Ведь это ему бы самому, псу, и сочинять, а он ишь…
— Ей по-любезному следует… и горазже-таки! — подтвердили человека четыре рабочих, находившихся тут же в избе: один из них, сидя в углу, переворачивал какие-то свертки и узелочки, то раскладывал их вдоль лавки поодиночке, то сгребая в одну общую кучу; другие подошли к столу и, затаив дыхание, впились глазами в писаря и ждали.
— Так от него писать? — спросил писарь, взявши перо в руку и устанавливая дрожащие пальцы на бумаге.
— Да, от Герасима… а и от меня тоже, — не совсем еще собравшись с мыслями, пробормотала молодица. — Но больше от него надоть, потому я, известно, хочь бы и жена, но все-таки ровно бы не то что чужая, а так как будто бы не из ихнего роду, — распространилась было она.
— Как отца-то зовут? — перебил писарь.
— Иваном Харитонычем.
— А прозвище?
— Залежный.
— Как?
— Залежный, Залежный, — хором подсказывали зрители.
— Ну, да это, впрочем, к делу нейдет, — склонив голову над бумагой, произнес писарь и заскрипел пером. Настала мертвая тишина. Все глаза устремились на кончик пера, выводившего на бумаге такие-то хитрые каракули, что и сказать невозможно.
— А мать как? — через минуту спросил писарь, не поднимая головы.
— Агафья Омельяновна.
Писарь снова заскрипел.
— Да ты что, какую мать-то спрашиваешь? — полюбопытствовала молодица.
— Известно, про какую. От кого письмо, про того и мать спрашиваю.
— Так евонная, Герасимова-то, мать — Дарья Патрикевна, а Агафья Омельяновна это — моя, — добродушно заметила Никифоровна. — То-то я и подумала: лучше, мол, успросить у Семеныча, про какую он про мать-то спрашивает, чтобы опосля фальши какой не вышло.
— Я еще до матери не дописал, — пробормотал себе под нос Семенович.
Долго, томительно переступая с ноги на ногу, с любопытством следили зрители за писаньем, долго, подавляя глубокие вздохи, во все глаза смотрела Никифоровна за бегом пера на бумаге и рвалась подсказать, о чем еще следует приписать, — наконец томление кончилось: писарь остановился, крякнул и коротко проговорил:
— Еще что?
Все встрепенулись.
— Ну-ка, почитай-ка, Семеныч, как оно выходит? — ласково молвила молодица.
— Да уж выходит — одно слово…
Сочинитель отдалил от себя писанье на приличную дистанцию и, прищуривши левый глаз, прочел:
— «Любезнейшему нашему родителю, тятеньке Ивану Харитонычу посылаем мы и с супругой нашею Анною Никифоровною, наше сыновнее почтение и низкий поклон, и с любовью, и испрашиваем вашего родительского благословения, навеки и по гроб нерушимого, а равно и любезнейшей нашей родительнице, маминьке Дарье Патрикевне, и с супругою нашею Анною Никифоровною, посылаем наше сыновнее почтение и низкий поклон, и с любовью, и испрашиваем вашего родительского благословения, навеки и по гроб нерушимого…»
— Ловко! — одобрили слушатели.
— Теперича дочке ихней отпишите, — подсказала Никифоровна.
— А как зовут?
— Устинья Ивановна. Она еще невеличка, по пятнадцатому году всего, — пояснила молодуха. — В деревне-то, бывало, мы всё ее: «Устюшка» да «Устюшка». Ну, и в письме-то уж, известно, величать следует, этак-то не скажешь… запросто, то есть.
Писарь поместил в письмо и Устинью Ивановну.
— Опосля Устиньи вы пропишите теперь про Герасимова брата, который помер, так у его, у упокойника-то, жена осталась, Марья Финогеновна, у ней, у Марьи-то Финогеновны, девчонка Анна Лукьяновна да парнишка — мужнин крестник, по мужу же ему и имя дадено, Герасимом Лукьянычем, — этим теперь по поклону отпишите.
Долго перо Семеныча скакало по бумаге, выписывая Марью Финогеновну с ее девчонкой и парнишкой, наконец и они были введены в письмо.
— Написал, — угрюмо прорычал сочинитель.
— А написал, так про мужнину про тетку напишите, про отцову, значит, про Ивана-то Харитоныча сестру Аграфену Харитоновну, — этой поклон пошли. Только этой попроще пишите: «С супругом, мол, вашим и с чадами», — вот и всё, потому — где уж тут всех пересчитывать: у ей, вон, что ни год, то брюхо. Совсем измоталась она, сердечная, с ними, с пострелятами, — со вздохом добавила Никифоровна, — да, право!
— «…И с чадами», — изрек писарь.
— Написал?
— Написал.
— Так теперь Пастухову брату, Ефиму Антонычу, пропишите поклон «с супругою, мол, и с чадами». Известно, — добавила она, — он нам не родня какая; а только как завсегда они Гарасима как будто заместо родного почитают, потому и им от нас честь.
— «И с чадами», — прописал писарь.
— Теперь баушке Лукерье Анисимовне, — такая у них старушка есть, — этой: «с единоутробной, мол, дочерью вашей», по поклону отпишите. Настасьей Лукинишной дочь-то зовут.