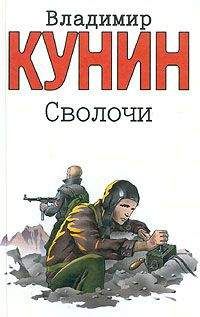Мария Ульянова
Жилец
В воздухе пронзительная свежесть и сырость - словно крик о помощи. Желтое покрывало листьев разорвала на лоскутки, сгребает в кучи, укладывает на ржавую тележку дворничиха - между кожистых стволов лип копошится черное пятно ее жилетки. Под шерсть пальто, под кольчугу свитера, под майку пробирается холод - продувает насквозь. Лиственницы нехотя окрасили пушистые ресницы желтой тушью, лиственницы эти - иностранки, заблудившиеся в толпе тополей с худыми стыдливыми стволами. Ветер треплет старенькие парики кленов, а кое-где на верхушках пробилась голая ветвь, словно треснула ткань и вылезла жесткая леска каркаса. И, значит, скоро бродячий цирк сорвется с места, прихватив с собой разноцветный шатер. И останутся худые, голые деревья.
Но пока желтые листья кусает сквозняк, вроде бы не так холодно. Особенно если посильнее сжаться под шерстью пальто, под кольчугой свитера, под майкой, и быстрее идти. Но ложатся на голое запястье, за шиворот скользят и вот уже пошли волны дрожи по ребрам. А идти еще долго. В учреждение.
И он спешит, сутулясь, скованный холодом, не смотрит по сторонам, а сосредоточенно вглядывается вперед. Кто он? Да так, никто особенно. Он не любит называть свое имя и рассказывать о себе. "Чего рассказывать-то, я так, неинтересный, скромный человек". По этой улице он ходит года три, каждый день и знает: пройти по улице быстрым шагом - это шесть с половиной минут. Шесть с половиной, если не привлечет внимания какая-нибудь мелочь - вывеска, монетка, золотистая корзина в витрине, наполненная чем? Если он подойдет узнать, остановится и станет рассматривать тонкие шелковые косынки, красные и бирюзовые, для красоты брошенные в корзину, за шесть с половиной минут улицу не преодолеть. И ведь не оторвешься от мягкого прохладного света, от манящего спокойствия незнакомых лавок, и побредешь гуляющим, задумчивым прохожим, который не торопится втиснуть улицу в строго выделенный лоскутик времени. Время - довольно эластичная вещь, но уж если сделалось коротко, надставить нечем, не придумали такого материала. А вот старенькое, севшее после стирки пальто надставили - грязно-синие манжеты на рукавах, кажется, всегда и были. Или все же заметно, что от бедности пристрочили? Неужели заметно, неужели из-за этих надставленных, чтобы не продувало, кусочков шерсти сослуживцы смотрят сквозь него и отправляются в буфет, не пригласив присоединиться? Неужели из-за того, что пальто село и зашито в двух местах, ему не приносят чашку чая с лимоном и не ставят на стол, на салфетку, даже когда он просит и дает денег?
Он неспешно шел, уверенный, что поспеет вовремя. От этого на душе было спокойно, а телу - почти тепло. А пальто и вправду здорово протерлось, тонковато для задиры ветра, что слишком разошелся, раздает колючие пощечины, силится оторвать от земли.
Он шел не с пустой головой, а, сжав кулаки в карманах, быстро передвигая ноги, думал, что осень - это когда деревья дослужились до оранжевых и желтых костюмов, словно уборщик сцены, всю жизнь мечтавший о собственном номере, преодолел обстоятельства и стал клоуном. Но скоро облетят листья, как старые афиши. Треснет небо, рассыплется снег - белое покрывало фокусника, что задержался в городе из-за девушки с заплаканными глазами. И расстелил белое покрывало: чудо откладывается до лучших времен. Теперь фокусник - просто мужчина, работает в учреждении и навещает девушку с заплаканными глазами примерно раз в неделю с букетом маленьких белых розочек.
На ходу встречаются препятствия - мелкие лужицы. Они напоминают видеокамеры неба, рассыпанные по городу так, чтобы можно было выследить жизнь любого. Вчера он очень странно прошел улицу - это была уже не ходьба, а бег с препятствия-ми, - скакал через частые слюдяные зрачки промерзших луж.
Прыгая через лужи, он обратил внимание на парочку, что застыла на рекламном щите. Парень с девушкой - худые и необычно веселые для своих легких курток - свысока смотрели на него, предлагая одеваться в лавке с немецким названием.
Во время одного неумелого прыжка он почти налетел на столб этого самого рекламного щита, с размаху ударился щекой о холодный твердый металл, да так, что заныла скула - еще подумал, что синяк не скрыть, ведь пудру никто не захочет одолжить.
Когда-то давно, ребенком на даче, он обнимал деревья. Вчера те, дачные, воспоминания выплыли, представ как искаженное отражение в луже: чтоб не упасть, он обхватил железный столб руками, обнял холодный, бесчувственно гладкий и неподвижный столб рекламного щита. В обнимку со столбом он пришел в себя и в какое-то мгновение прижался виском к серебристой холодной поверхности. В висок потекла прохлада. Потом он очнулся, осмотрелся, не видел ли кто, как неуклюжий и беспомощный человек в севшем стареньком пальто стоял, прижавшись к железной балке. Никого вокруг не было, в столь ранний час улица свежа и туманна, словно ночью ее выстирали и просушили. Он оправил воротник и аккуратно, стараясь не смотреть по сторонам, бегом понесся дальше - опоздал всего на полминуты.
И зачем он так прыгал, ведь вечером, когда он обычно плетется обратно, на улице светят лишь два окна да пара скупых, истощенных неизвестной болезнью фонарей. Вечером улица подталкивает вперед застывшего в темноте по лужам, по грязи, без разбора, домой.
Сегодня, не поднимая головы, чтобы не пустить ветер в щелку между шарфом и тонким воротником, он покосился на рекламный щит, но ничего на нем не обнаружил, кроме голого белого прямоугольника - плакат содрали. Жаль, он так хотел рассмотреть ту картинку внимательнее - было бы, о чем поразмышлять оставшиеся пять минут улицы. Вместо этого он вынул руки из карманов и натянул шарф. Ветер столкнулся с ним вызывающе, мол, в моих силах сбить тебя с ног. До этого шел, плавая в полусне, теперь ветер разбудил, пришлось просыпаться.
Навстречу неслась парочка молодых людей. Шоколадные волосы девушки разметались от быстрой, пританцовывающей ходьбы, хотя движения ее были плавными, чтобы не повредить прически и не смахнуть слой пудры со щек. Они шли, сцепившись руками, аккуратно улыбались под музыку "свить-фьють", которую пели их жесткие короткие куртки. Они не заметили его, как не замечали и улицы, машин, домов, пританцовывая, передвигали длинные ноги, стянутые тугими джинсами. От них струился путающий мысли аромат. Он замедлил шаг и пожал плечами: "Вот ведь - парочка со вчерашнего плаката с рекламой немецкого магазина идет навстречу". Совершенно неземные люди, молодые. Он призадумался, но не смог представить, как они обедают, а после - моют посуду. Это, наверно, пустота, сгустившись, обозначила тонкие, нежные тела. Он даже обернулся уточнить: идут-то, касаясь земли или как?
Казалось, небо тоже внимательно наблюдает за ними сквозь дымное третье веко, а его, случайно встреченного прохожего, семенящего на работу, не замечает. Не надо было думать о небе и о том, что у неба на уме. Вдруг стало жалко свое неухоженное, усталое тело с небритым подбородком и ноющим шнуром позвоночника. Внутри изношенного тела, там, куда он, поспешно, обжигая язык, влил с утра черную тоску кофе, завывало голодное серое существо, чья жизнь клонится к закату, от этого и шерсть поблекла, от этого и зябко.
Сжавшись в клубок, как скулило это мокрое создание три дня назад. В тот вечер он замер у подъезда с букетиком мелких белых розочек и ждал девушку с заплаканным глазами. Но произошло непоправимое: дверь скрипнула, в ярком свете вспыхнула фигурка, порхнула мимо него и тихо, по-чужому смеясь, нырнула в незнакомую машину, что подстерегала тут, рядом, тихонько попыхивая и урча. Машина слилась с ночью, лишь проступал в слабом свете мужской профиль, на руле лежали утомленные белые руки с перстнем на правой. Красный камешек-капелька унесся в ночь. А он стоял с букетом мелких розочек, не замеченный, в темноте. И внутри его тела скулил мокрый серый раб.
Ветер пихнул в спину - сбил с мысли. Этот сухой, скользкий ветер подгонял, мол, иди, иди, нечего отвлекаться на всякие пустяки. Неинтересный, скромный человек съежился и раздумывал, как продержаться в стареньком вытертом пальто, если зима нетерпеливо попыхивает в спину, холодит загривок, все ближе подкрадывается. Как-нибудь утром вьюга возьмет и явится непрошеным гостем, тихо юркнет в квартиру и укроет все вокруг белым хрустящим покрывалом. Тогда простуды неизбежны, и снова бери за свой счет.
Он старался сопротивляться, гадал, как бы подкопить на толстое зимнее пальто: не покупать же ярко-синюю или желтую подростковую куртку в магазине уцененных товаров, чтоб потом стесняться себя и панически избегать взгляда прохожих. Может быть, стоило бы снять комнатку поменьше, угловую, без батареи. Или скромную, чистенькую комнатку в каком-нибудь неприметном доме, а не в этом - из черного камня, на берегу Невы. Но как променяешь старинный дом-красавец с видом на реку на какой-то сонный, захолустный барак окраины? В этом черном доме давным-давно располагался бордель, до сих пор по ночам слышны вздохи и смех по углам. А то и вовсе разойдутся беспокойные тени, кто-нибудь подлетит, пихнет в спину и начнет нашептывать всякие истории, а ты знай, кивай темноте, как внимательный, благодарный слушатель, и вздрагивай от холодных пальчиков на своем плече. Впрочем, обо всем этом не хотелось думать, он прогнал эхо ночных кошмаров, позволив ветру освободить и остудить голову. Поеживаясь, ускорил шаг. Казалось, еще минута, и заскользишь вместе с ветром, легко и быстро. Холод сковал ледяным обручем уши, голову опустошил, прожег. Руки покалывало, а мизинец окаменел навеки. Грела надежда, что, может быть, к вечеру станет потеплее, тогда на обратном пути будет приятно идти в темноте сквозь запах мокрой листвы. И старая хозяйка, закутанная в короткую серую шаль, укоризненно понаблюдает, как его хлюпающие ботинки оставят на старинном паркете комки глины с сухими жухлыми травинками.