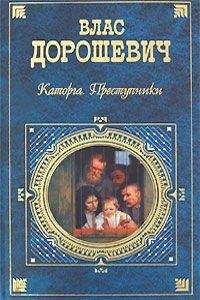Очаровательное горе
(Маленькая, но глубокая трагедия)
Мне много приходилось видеть картин человеческого горя, но клянусь, я не видал несчастия более прелестного, очаровательного.
Её горе состоит в прелестных плутовских глазках, золотистых волосах настоящей Гретхен, задорно вздёрнутом носике, губках, которые поэты старого времени сравнивали со «спелыми вишнями». Когда она улыбается, из-за этих губок, как говорили в старину, «сверкает два ряда жемчужных зубок». Когда она плачет, её хочется расцеловать.
Когда она вошла, мне показалось, что в мою комнату ворвался луч солнца, струя весеннего воздуха.
Когда она сказала мне своим мелодичным серебристым голоском: «Я вам не помешала?» — мне показалось, что лучше этого я никогда ничего не слыхал в жизни.
А между тем…
Если б вы меня назвали уродом, честное слово, это был бы самый счастливый день в моей жизни! — сказала она, и в голосе её послышалось столько неподдельного горя.
— Это несчастие! Когда я надеваю простенькую шляпку, — все говорят: «какая прелесть!» Если я хожу в тёмном платочке, — находят, что я похожа на хорошенькую кармелитку. Наконец, когда я надела вот эту зимнюю шапочку, — говорят, что я похожа на задорного мальчишку. А между тем я погибаю. Не смотрите хоть вы на меня, как на хорошенькую, — выслушайте и скажите, что же мне делать?
Как тысячи, она, круглая сирота, приехала сюда из провинции искать места: гувернантки, лектрисы, конторщицы — всё равно, честного труда.
Она публиковалась в газетах и получила много предложений.
— Но что это были за предложения! Я устала уж краснеть от предложений, которые мне делают. Я привыкла к этому позору, как к чему-то обычному и неизбежному. Но тогда я краснела, я плакала, я с ужасом спрашивала себя: «за что же, за что меня так оскорбляют? Неужели только за то, что я хорошенькая?»
Наконец, она остановилась на одном. На месте лектрисы.
— Больной разбитый параличом старик.
Полутруп. Право, иногда, во время чтения, мне делалось страшно. Мне казалось, что он умер и в кресле лежит труп. Я поднимала глаза, — он смотрел на меня взглядом, в котором светилось что-то странное. Минутами мне казалось, что я сижу рядом с трупом, что я слышу даже запах разлагающегося тела, а труп пристально смотрел на меня тем же странным взглядом, не спуская глаз. Мне делалось страшно и противно.
Боже, что он заставлял меня читать по-французски. Я краснела до корней волос, давилась слезами от стыда и оскорбления. А чаще не понимала. Это было ещё хуже. Тогда он принимался объяснять мне и не умолкал до тех пор, пока я, молодая девушка, не понимала всего. Довольно вам сказать, что нет в мире таких вещей, которых бы я не знала! А между тем, клянусь вам, я девушка как Жанна д’Арк! Здороваясь и прощаясь, он долго задерживал мою руку в своей, любуясь моим смущением, а между тем, я дрожала от отвращения и страха перед этим полутрупом. Не знаю, как он объяснял себе моё смущение, — но только однажды, когда я, по его просьбе, поправляла плед, закрывавший его ноги, он обнял меня за талью, притянул к себе и поцеловал. Мне кажется, что я и до сих пор ещё чувствую на своей щеке прикосновение этих влажных губ. Я вырвалась, кажется, ударила его, крикнула что-то и в ужасе кинулась вон. Меня душили рыдания.
Больше она уж не рисковала являться по «мужским приглашениям». К счастью, ей скоро подвернулась клиентка:
— Пожилая, болезненная женщина, муж которой постоянно живёт в Петербурге, отговариваясь делами. Эта брошенная больная женщина тосковала страшно, возбуждала искренне сожаление, и я делала всё, чтоб хоть немного её рассеять в её горе. Я выбирала лучшие, наиболее занимательные книги, старалась читать с чувством, с выражением, я окружала её заботливостью, но каждое моё движение, самый вид мой возбуждали её ненависть. Когда в книге попадались слова «хорошенькая женщина», «красивая девушка», она говорила: «смазливая кукла!» — и смотрела на меня так, словно хотела укусить. Часто она прерывала чтение и начинала бранить всех теперешних девушек, — словно перед ней сидела древняя старуха. И лицо её делалось при этом такое злое, такое злое. Моя походка, голос, причёска, — всё её раздражало, выводило из себя. Она упрекала меня в том, что я завиваю себе волосы, — хотя они, право, вьются у меня от природы. А когда я пришла в новом синем суконном платье, очень простеньком и скромном, — она, — в тот день она получила письмо, что муж остаётся в Петербурге ещё на два месяца, — она раскричалась, что я похожа на кокотку, что такие дряни только и умеют, что разрушать семейное счастье и заставлять плакать женщин, подмётки которых они не стоят. Что у меня есть обожатели, что она таких мерзостей не потерпит, и приказала мне убираться вон. За что? Я проглотила и эти слёзы.
Должности лектрисы она с тех пор боялась, как огня, и стала искать места гувернантки.
— Отличное место, где я должна была заниматься с двумя девочками.
Прелестные люди. Но однажды за столом я почувствовала, что кто-то жмёт под столом мою ногу. Я взглянула напротив и увидала, что брат моих учениц, шестнадцатилетний гимназист, знающий по именам всех певиц «Гранд-Отеля», всех скаковых лошадей и всех собак известного одесского охотника N, — что он смотрит на меня масляными глазами. Затем в книге, которую он взял у меня почитать, я нашла от него записку на розовой бумаге. И, наконец, придя играть с сёстрами, он обнял меня за талью и шепнул: «Когда же?» Я отправилась жаловаться его матери. Она сначала возмутилась за сына: «Не может быть! Ваши мысли дурно направлены, mademoiselle!» Но когда я показала ей записку, она смутилась и сказала: «Хорошо, ступайте, я разберу это дело!»
Через час она пригласила меня к себе и сказала, подавая мне деньги:
— Простите, mademoiselle, но дольше мы держать вас не можем. Ваня, оказывается, слишком взрослый. Конечно, это наша вина, мы должны были бы подумать об этом, когда брали в дом молодую девушку… Вот вам, в виду этого, за месяц вперёд, дольше оставаться вам нельзя.
Я снова очутилась на улице.
На этот раз страдалица, — вы мне позволите называть её страдалицей, потому что на глазах её во время рассказа блестят слёзы обиды и горя, — на этот раз страдалица решила бежать «из этого проклятого города» и с восторгом схватилась за приглашение в деревню:
— Отличное место. Трое детей… Но отец! Я не говорю уже о том, как страдали мои ноги под столом. Он всегда умел улучить минутку, чтоб пожать мне локоть или незаметно поцеловать в затылок. Он начал являться в детскую и просиживать целыми днями. А по вечерам я слышала тихий, осторожный стук в дверь моей комнаты, которую из-за предосторожности запирала, словно была окружена разбойниками! О, это были ужасные дни! К тайным приставаньям мужа примешалась явная ревность жены. Он начинал уж злится, она бесилась. Однажды он ни с того ни с сего придрался, накричал на меня, она сделала нам обоим сцену. Приказали запрячь лошадь и отвезли меня на станцию.
Очутившись снова на одесской мостовой, она перепробовала, кажется, все занятия, возможные для женщины, все, кроме одного.
— Я поступила в большой торговый дом. Управляющий перевёл меня в комнату, поближе к нему, спрашивал, что за охота мне, такой хорошенькой, служить за 30 рублей в месяц. Предлагал билеты в театр. Один рез требовал, чтобы я непременно выпила рюмку какого-то ликёра. И, наконец, когда я однажды вошла в кабинет, прося объяснить мне что-то непонятное в счетах, он взял меня за подбородок: «Ах, вы милое дитя, дитя!» и поцеловал меня в губы. Когда я крикнула на него и сказала, что буду жаловаться, я сделалась плохой служащей. Всё у меня было не в порядке, и в конце концов я была уволена «за плохое поведение и небрежное отношение к делам».
— Я поступила в магазин. Хозяин однажды попросил меня прийти вечером и подвести счета, и вдруг ни с того ни с сего заговорил, что он чувствует в своей жизни пустоту, что они с женой — только друзья, что в 7 лет супружеской жизни всякая любовь гаснет и в заключение предложил мне поехать в загородный ресторан, потому что у него голова болит и мне нужно освежиться.
— Видя, что ничего не добьёшься, я решила пойти на сцену. Там, кажется, красота не составляет недостатка! Хоть тарелки выносить, хоть за 25 рублей служить, но есть свой честный кусок хлеба. Ведь могу же я оставаться честной. Пусть это будет мой каприз! — сказала она с глазами полными слёз, улыбаясь грустною улыбкой.
Но её сценическая. карьера кончилась так же скоро, как и все остальные.
— В маленьком дачном театришке, где я служила, мне не только не заплатили за первый же месяц, но даже рассмеялись, когда я заикнулась об уплате: «Такая хорошенькая и хлопочет о каких-то грошах!» У театра был меценат, богатый дачник, и антрепренёр, — правда, конфузясь, — просил меня: «Право, поужинали бы с ним. Он уже который раз говорит мне. А то рассердится и отомстит мне». И, уж не конфузясь, предложил мне поужинать с ним самим. С ним! С этим жалким антрепренёром, живущим на подачки! А что это было за несчастное существо! Неужели только потому, что женщина хорошенькая, всякий Богом и судьбой обиженный человек может иметь на неё право? Мне дали рольку в водевиле, но зато режиссёр меня спросил: «Когда можно прийти к вам… чтоб пройти рольку?»… А когда я сказала, что никогда, оказалось, что я и без слов-то на сцену не умею выйти.