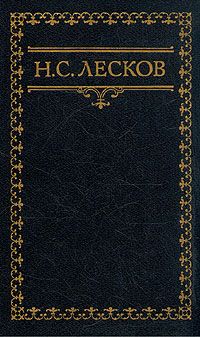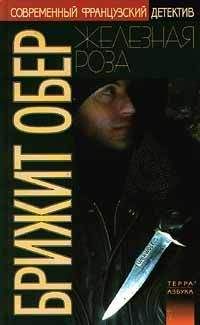Николай Лесков
Бессребреник
(Из воспоминаний старого армейца)
Кому случалось ездить по нашим грунтовым дорогам позднею осенью, тот, конечно, знает, что это не езда, а мука. Однажды довольно уже давненько я по общему армейскому обер-офицерскому положению странствовал в обыкновенном почтовом телеграфе, как наши армейские шутники величают душегубительные телеги. Мучишься, мучишься, качаешься, качаешься, да, охая, спросишь ямщика:
– Ну, что, как впереди дорога?
А у того уже и готов ответ:
– Да что дорога, – Сибирь, да и только!
Вот и кати малина.
Бедные почтовые лошади с избитыми до крови ногами, колеса, покрытые замерзшею грязью, быстрота движения со скоростию пяти верст в час и беспрерывные толчки и встряхивания невольно приводят к тому, что, де, мол, это точно Сибирь, Сибирь, как есть Сибирь!
Ехал я по стороне богатейшего чернозема; грязь была невылазная, – и вдруг мороз! Дорога стала окончательно непереносима, а ехать надобно.
Ехал я таким аллюром день и добрался к вечеру до одного уездного города, где хотел было только напиться чаю; но еще с утра мне что-то нездоровилось, а тут, к вящему соблазну, и диван мягкий, и теплота от чаю и от печки пораспарила, да и денщик подговаривает «передышку взять». Э, думаю, куда ни шло, – давай заночую – и заночевал; да ведь черт знает, как заночевал-то!
* * *
С тех пор, как я велел стлать постель и лег в нее, я ничего не помню: кто езжал на телеграфе, тот знает, как это бывает.
Проснувшись же, я, к крайнему моему удивлению, почувствовал страшную слабость во всем теле и боль в руках и в затылке. Что же это со мною? Кликнул денщика и сам испугался своего голоса, так он был слаб. Денщик не отозвался, но, вместо его, в комнату вошел худенький, маленького роста военный доктор и тотчас же заговорил:
– Ну, что, батенька, проснулись; ну, теперь слава Богу…
– Что такое, говорю, значит «проснулись», почему такая радость здесь кстати?
– Радость? А вы знаете ли, какое нынче число?
– Которое число! – Я твердо помнил, что приехал на станцию двадцать второго, и потому спокойно отвечал:
– Разумеется, двадцать третье.
Доктор засмеялся.
Все это начало меня удивлять и даже немножко сердить. Лекарь это, кажется, заметил.
– Нет, вы ошибаетесь, – проговорил он тихо; – сегодня двадцать восьмое.
– Двадцать восьмое!
– Так и есть, – утвердил доктор с сильным польским акцентом.
– Так неужели же, черт меня возьми, я это проспал целые пять суток; этого быть не может! – воскликнул я и в то же время подумал: это ты, пан добродей,[1] со мною «Вечер на Хопре» разыгрываешь!
– Проспать вы не проспали, а пролежали без памяти, – отвечал мне спокойно доктор. – У вас была горячка, но теперь прошла.
Я посмотрел ему прямо и пристально в лицо и в полном убеждении, что он пришел надо мною потешаться, сказал:
– Позвольте мне, милостивый государь, вам в глаза расхохотаться.
– Браво, браво! – воскликнул доктор, – но прежде попробуйте-ка сесть.
Я попробовал, но только крайне неудачно: голова не поднимается.
Ну, вижу, история-то в самом деле хуже географии.
– Что же, говорю, мне делать теперь, доктор?
– А что делать? Прежде всего, я думаю, вам теперь на станции лежать не приходится, а перебирайтесь куда-нибудь на квартиру, да долечимся.
Так я и сделал, но сделал не без затруднений.
* * *
Я позвал денщика и велел ему идти в город и искать помещение, но денщик вскоре возвратился.
– Ну, уж город, сибирный! – бурчал он, – куда ни зайдешь, и говорить с тобою не хотят. Ни на один постоялый и то не пущают. – Иди себе, кавалер, по добру по здорову. Бог с ними совсем, боятся, разумеется, как бы ваше благородие не сдохли.
– Ладно, говорю, ладно. Позови ко мне смотрителя.
Смотритель дал нам совет обратиться к городничему.
– Они, – говорит, – вам по отводу все это могут удовлетворить.
Шлю моего личарду к городничему, но гляжу, он возвращается оттуда еще мрачнее.
– Что, – говорю, – такое?
– Да что, городничий-то, – говорит, – меня мало по уху два раза не съездил. Ты, говорит, свинья. Я плевать, говорит, что вы с барином в городе прохлаждаетесь. Как приехали, говорит, так и живите, а мне, говорит, до вас дела нету… Вон, говорит, пошел!
Опять явился на сцену смотритель и повел на сей раз речь такого содержания, что пошлите, мол, трюшницу к письмоводителю.
Посылаю трюшницу.
Летит мой денщик через полчаса назад рысью и орет: отвели, ваше-бродие, фатеру, у того самого подлеца хозяина, который нас за деньги пускать не хотел.
Часа через два я был уже на новой квартире. Мне показали две чистые, теплые и уютные комнатки с множеством образов в передних углах. Стены были увешены картинами, представляющими историю Женевьевы Брабантской и Малека-Аделя. Хозяин, местный хлеботорговец, оказался добрейшим человеком, и мы с ним скоро поладили.
– Скажите, пожалуйста, – спросил я его однажды, – отчего вы меня не хотели пустить на квартиру, когда я к вам просился?
– Осмелюсь доложить, это по той причине, что, как мы были наслышаны, что вы на смертном одре и, неровен час, могли бы скончаться, а тогда… господин городничий… они – нехороший у нас человек…
– Да, а вот доктор у вас отличный человек! Я вот до сих пор ничего еще ему не заплатил, да и не знаю, как его зовут и прозывают.
– Дохтур наш! Да-с, это такой человек, что изойди, может, свет, а другого не скоро подыщешь. Это такой человек, на удивление, даром что из поляков.
Такая восторженная похвала, высказанная русским человеком доктору нерусского происхождения, меня немало удивила и заставила полюбопытствовать, чем этот доктор сумел себе снискать такое расположение, а хозяин мой не отказался удовлетворить моему любопытству.
* * *
– По первому началу лечит он, – начал рассказчик, – столь преискусно, что к нему даже из дальних местов наезжают, а повторительно – бессребреник.
– Как так бессребреник?
– Так: ничего как есть за труды не приемлет, а живет на одно царское жалованье, да и то еще не в редкость бедным на лекарство расходует.
– А звать, мол, его как?
– Зовут его Виктор Ксаверьевич Черешневский, из поляков, смирный. Только разве этак редко когда расфордыбачится и тогда горд. К примеру, бывало – барин захворал, и лакей барский захворал: для него это все единственно; посмотрел у барина язык, за руку подержал и говорит: у вас плевое дело, внимания не стоит, одна, можно сказать, меланхолия, а к лакею в день раза три наведается.
Доктор стал очень интересовать меня, и я, расспрашивая о нем хозяина, то хозяйку, узнал еще нечто большее. Мне рассказывали, что когда незнакомые пациенты предлагали Черешневскому деньги, то он прямо отказывался. Ему говорили:
– Отчего вы, доктор, не хотите принять нашей благодарности? Мы вам так обязаны…
– От благодарности я не отказываюсь, – говорил Черешневский, – но отчего же вы думаете, что благодарить и дарить – это одно и то же?
– Но вы меня вылечили…
– Это моя обязанность, я за нее от государя жалованье получаю.
– Но ваше жалованье так ограничено.
– Пустяки, – отвечал Черешневский. – Надо только самому уметь себя ограничивать, и тогда всего довольно.
Когда доктору предлагали во второй раз, он начинал сердиться, при третьем предложении говорил: «вы, без сомнения, хотите, чтобы я к вам больше не ходил», а после четвертого – и действительно прекращал свои посещения.
Имея большое число пациентов в городе и по соседству в деревнях, Черешневский по необходимости держал пару лошадок и трясучку-бричку летом и лубочные санки зимою. Раз зимою сено страшно вздорожало, и бедный Черешневский начал помаривать своих коней. Об этом узнали, и один из соседних богатых помещиков поднялся на хитрости. В базарный день в квартиру доктора, когда его не было дома, привезли несколько возов сена, будто бы купленного на базаре. Возы свалили, и мужики уехали. Черешневский возвратился и сейчас же заметил порядочный стожок, сложенный перед окнами.
– Цо то есть?[2] – грозно обратился он к своему слуге Игнатию, забывшему по-польски и не научившемуся по-русски.
– Як цо то есть? – сяно.[3]
– Але сконд? (откуда).
– Або я вем (а разве я знаю).
Взбеленился доктор донельзя.
Виновный помещик, несмотря на все свои заверения и клятвенные обещания, что знать не знает и ведать не ведает, был оставлен в сильнейшем подозрении; а преступное сено продано с аукционного торга в пользу бедных.
В другой раз на столе доктора очутилась очень ценная серебряная кружка с бюстом короля Собеского и изображениями некоторых лучших моментов из польской истории. Самые строгие исследования не открыли, кто принес и оставил эту кружку. За это с кружкою, которая столь нравилась доктору, что он сам мечтал купить ее, было поступлено так же, как с сеном. Доктор продал ее и деньги роздал бедным.