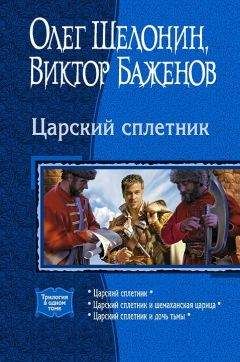Николай Александрович Добролюбов
Уличные листки
БАРАДАДЫМ, БЕССОННИЦА, БЕССТРУННАЯ БАЛАЛАЙКА, ВЕСЕЛЬЧАК, ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА, ГОВОРУН, ДЯДЯ ШУТ ГОРОХОВЫЙ, ЕРАЛАШ, КАРТИНКИ С НАТУРЫ, ЛИТЕРАТУРА В ХОДУ, МОИМ ТРУТНЯМ СОВЕТ, МУХА, НАРОДНОЕ РАЗГУЛЬЕ НА ПЕТЕРБУРГСКИХ ОСТРОВАХ, НОВЕЙШИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ, ОРОСКОП КОТА, ПОТЕХА, ПРАВДА В СТИХАХ И ПРОЗЕ, ПУСТОЗВОН, ПУСТОМЕЛЯ, РАЕК, РОДОДЕНДРОН, СМЕХ, СМЕХ И ГОРЕ, СПЛЕТНИ, СПЛЕТНИК, ФАНТАЗЕР, ФОНАРЬ, ШУТНИК, ЩЕЛЧОК, ЮМОРИСТ
Итого 30 штук!
Между тем как Москва сетует и плачет в лице своего Гераклита, г. М. Дмитриева,{1} в Петербурге каждый день появляются новые Демокриты, потешающие серьезную столицу своей веселостью, юмором, шутками и всякой всячиной. И Петербург решительно потешается – в каждой гостинице, в каждой мелочной лавочке, на каждом перекрестке. Одно время эпидемия на смех была так сильна, что серьезных людей останавливали на улице и приставали к ним с ножом к горлу: смейся, да и только. Я сам видел, как одного почтенного горбатого чиновника, бежавшего в департамент с портфелем под мышкой и, по-видимому, с очень мрачными мыслями, остановил вдруг на Невском проспекте ловкий господин, запустивший руку в карман пальто почтенного чиновника. «Что это, что это значит?» – забормотал испуганный чиновник. «Пять копеек-с», – развязно отвечал ловкий господин, указывая на листок «Смеха»,{2} торчавший уже из кармана горбатого чиновника. Бедняк, застигнутый врасплох, остановился, разинув рот, но, не будучи в состоянии произнести ни одного слова, с видом отчаяния и покорности судьбе взглянул он на «Смех», медленно вынул из кармана пятачок и молча подал его развязному господину, с такою печальною, убитою гримасой, что на него смотреть было жалко. Но развязный господин был, по-видимому, слишком весел для того, чтобы проникнуться чувством сострадания; он жадно схватил пятачок, проговорил с улыбкою: «Точно так-с», и исчез.{3}
Из этого рассказа иногородные читатели могут заключить, что если бы Петербург и имел твердое намерение удаляться от смеха, то нет ему для этого ни малейшего способа. Смех сделался в некотором случае священнейшею, хотя и тяжкою, его обязанностью; смех есть для него не забава, не естественное проявление веселости, а долг человеколюбия и благотворительности. Издатели листков большею частию сами объявляют с благородной откровенностью, что все их претензии ограничиваются малою толикою пятачков, на бедность, или, как иные из них выражаются, на голые зубы. Иные из них стараются разжалобить публику и для этого выделывают разные смешные гримасы. Например, «Смех и горе» не назначил даже цены себе, а, надеясь на доброту покупателей, провозгласил: «Что пожалуете». Вверху первой страницы этого листка напечатано: «Покупатель кладет в кассу «Горя» что ему угодно для утешения издателя». Оказалось, что кто-то опустил в кассу «Горя» (при магазине Крашенинникова) какие-то крупные деньги, и вот во втором выпуске «Смеха и горя» издатель пишет: «Русское спасибо публике! Нашелся один и покупатель-меценат! Не одни копейки, пятачки и гривенники опущены были в кассу «Горя»… Что стоит богачу опустить несколько рублей серебром? Но как заметить ему бедный листок, который вывесили на окошке книжного магазина. Захочет ли он отказаться от некоторых удовольствий, от какой-нибудь прихоти для этого листка?.. У нас многие любят благотворить втайне, и мы высоко ценим эту добродетель!..» Это объяснение, похожее на жалостный вопль салопницы, уже очень много говорит о характере всего предприятия. Но благородная откровенность издателя простирается еще далее. Он бесцеремонно рассказывает следующий случай: «Один покупатель-благотворитель, опуская гривенник, спрашивает хозяина книжного магазина, П. Крашенинникова (там только и есть касса «Горя»): «А что, это бедный человек, который издает «Смех и горе?»?» По всему видно было, что покупатель привык благотворить. Хозяин замялся и не знал, что сказать; может быть, и оттого, что в магазине сидел издатель. Бедный, он сказать не хотел, потому что это значило бы почти просить у покупателя милостыни, богатый – тоже, потому что он знает, что издатель небогат. И потому он сказал почти: и да, и нет». Из этого рассказа, выписанного нами даже без изменения пунктуации, читатели могут видеть, каков должен быть юмор листка, издаваемого при столь плачевных обстоятельствах.
Если «Смех и горе» старается возбудить в покупателях сострадание и рассчитывает на их чувствительное сердце, то другие листки стремятся к достижению своей цели, действуя ex abrupto,[1] по-ноздревски, обрушиваясь на читателя быстрым потоком сильных выражений. Вот как объясняется, например, на первой странице своей «Бессонница»: {4} «Да вы, милостивый государь, пожалуй, и не читайте, только пятачок серебра нам за экземплярчик отдайте»… Следовательно, главная цель «Бессонницы», «чтобы соиздателям на голые зубы малую толику пятачков приобрести (хоть и медными – они не погневаются)». Такая бесцеремонность нам, впрочем, нравится, хоть то хорошо, что не лицемерствует человек, а напрямки валяет себе, что ему требуется…
Большая часть других листков высказывает те же корыстолюбивые стремления, хотя в тоне более или менее умеренном. Все они стараются, по-видимому, подражать «Весельчаку»,{5} начавшему свое «знаменитое и всему свету известное» (как писали о девице Пастране{6}) объявление деликатным извинением: «Извините, почтеннейшие читатели, что я, не имея чести вас знать, сую руку к вам в карман». Издатели листков вообразили, что стоит им отлить такую же пулю, и карманы покупщиков мгновенно отверзутся пред ними. И, кажется, сначала заклинание это действительно имело силу; но потом в скором времени потеряло ее вследствие неумеренно частого повторения.
Сами листки, впрочем, сознают по временам, что «совать руку в чужой карман» не совсем благовидно. «Сплетник»{7} выразился на этот счет даже очень строго. «Действительно, почтенная публика, – восклицает он, – литература в настоящее время не что иное, как промысел достать себе кусок хлеба. Отчего же, разве добывать себе кусок хлеба постыдно? спросите вы. Ничуть; но где же тут добросовестность? Где их назначение? Где юмор? Смешить писатель-временщик не в состоянии; цель – пятачки, в которых все в настоящее время нуждаются!» И сам, по-видимому, сконфуженный таким возвышенным, благородным обличением, «Сплетник» тут же возглашает: «Покупай, покупай, публика, «Сплетника», ведь удивительно дешево!»…
Таким образом, по принципу, изъявленному самими издателями, литературная сторона во всех веселых листках этих должна исчезать пред торговою. Но, по известным началам ученых-экономистов, торговые интересы, при обширной конкуренции, непременно должны способствовать совершенству фабрикации. Литературные достоинства листков должны возрастать по мере того, как конкуренция увеличивается, хотя бы издатели ничего не имели в виду, кроме сбыта своих продуктов. Так бы, конечно, следовало ожидать; но, к сожалению, начала политической экономии оказываются решительно неприложимыми в настоящем случае. Вопреки ее соображениям, листки, появлявшиеся один за другим, не только не совершенствовались, а становились всё нелепее и скучнее. «Фантазер»,{8} появившийся по времени, кажется, двадцатым, изумителен по своей нелепости и тупости, а «Бардадым»,{9} один из последних листков, превосходит пошлостью и бездарностью всё, что только можно вообразить. Это обстоятельство, столь неблагоприятное для приложения у нас экономических теорий, может быть, как нам кажется, объяснено особенным характером тех сделок, посредством которых всякий старается у нас приобрести себе и увеличить свои выгоды. Это – характер Щукина двора,{10} где всякий сбывает свой товар на том основании, что у других всё дороже и хуже. Вам никогда не скажут на Щукином дворе, что торгуемая вами вещь стоит запрошенной цены потому-то и потому-то, не прибавивши к этому, что у других вы дешевле не купите, а между тем другие вас надуют, дадут гнилого, лежалого, старого, линючего и т. п. В этом выражается одна из особенностей всего нашего общества, во всех его классах: это – желание подставить ногу другому для того, чтобы самому опередить его. Ясно, что при такой системе конкуренция ни для кого не может быть особенно благодетельна. Но такая конкуренция не требует больших трудов, знаний и достоинств; поэтому она очень сильно распространена у нас между многими, вследствие недостатка действительных знаний, искусства и трудолюбия. К такой системе охаиванья чужого для восхваления себя прибегли и наши юмористы издатели. Некоторые листки почти сплошь наполнены тонкими намеками на своих собратий, и если вы не следили за всеми листками, то вы, конечно, ничего не поймете из этих намеков. Грубая брань и тупые насмешки, направленные против собратов, никому не известных и ничем не замечательных, – вот чем думают веселить издатели листков свою публику, Главный их неприятель, их bête noire[2] – это «Bеcельчак»; о нем отзываются листки то с ожесточением, то с пренебрежением, но всегда желчно и неприязненно. «Весельчак», с своей стороны, не вытерпел нападений, хотя между этими маленькими зверьками он и представляет довольно большое животное (он выходит каждую неделю, по листу, тогда как из других листков только «Смеха» вышло пять выпусков в пол-листа, а другие ограничивались тремя, двумя, и всего чаще одним выпуском). Он счел, вероятно, небезопасным молчать и поражал своих противников стихами крайне жалкого свойства. Впрочем, может быть, в «Весельчаке» были и остроумные стихи и статьи действительно веселые. Мы не можем говорить о «Весельчаке» с полной уверенностью, потому что более половины нумеров его не видали. Странную судьбу, в самом деле, имеет этот «Весельчак». По-видимому, он распространен страшно: в трактирах он есть столь же необходимая принадлежность, как «Полицейские ведомости»,{11} на станциях железной дороги – сотни экземпляров последнего нумера «Весельчака» красуются вместе с «Приятным собеседником» г. Булгарина, «Атакой женских сердец» г. Федорова и «Предубеждением» г. Львова. Из книжного магазина присылают вам книги: они завернуты в листок «Весельчака»; в него же обернут вам в лавке папиросы, свечи и т. п. На лотке разносчика, под яблоками или апельсинами, разостлан опять «Весельчак». И, несмотря на такой избыток экземпляров «Весельчака», ничего нет труднее, как достать полный экземпляр его, с начала издания. Мы не подписывались на «Весельчак» и потому обращались за ним к нескольким из его подписчиков: оказывалось обыкновенно, что налицо состоит или один последний нумер, или несколько первых нумеров… Так мы и не могли добиться полного собрания листков «Весельчака», чтобы рассмотреть его в подробностях. Заметили мы только одно, что новая редакция (г. Львова) сильно ожесточена против старой (Барона Брамбеуса). Прежняя редакция возбудила негодование всего литературного круга тем, что пустилась в остроумие слишком уж грубое, аляповатое, площадное. Но этой-то грубости острот и площадной сальности выходок она и была одолжена своим успехом в массе читателей известного разряда. По-видимому, «Весельчак» на них и рассчитывал, и, несмотря на всю его пошлость, можно было надеяться, что он, под покровом шутовства и гаерства, пожалуй, что-нибудь и не совсем праздное и нелепое выскажет своим простодушным читателям. Но, по смерти Барона Брамбеуса, редакция перешла к г. Львову, который решился придать «Весельчаку» другой колорит. Попытка была, впрочем, если судить по некоторым нумерам, бывшим у нас в руках, не совсем удачна. «Весельчак» поднялся на ходули и, избегая прежнего остроумия, не умел избежать прежней грубости. Вышло то, что в нем остались топорные замашки, а острота исчезла. Явлением литературным «Весельчак» все-таки не сделался.