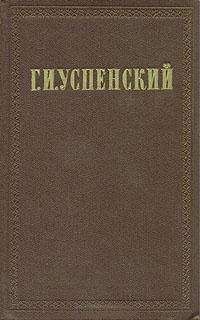Из разговоров с приятелями
1
…Слава богу, зима стоит настоящая, снежная, морозная, с вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проехаться на свежем, холодном воздухе, хорошо и дома посидеть во вьюгу и пургу, жарко растопив печку и взяв в руки хорошую книгу.
В один из таких вьюжных вечеров, как-то на днях, я и один мой приятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнейшее из удовольствий, удовольствие нестеснительного молчания. В особенности с этим "удовольствием" освоился мой приятель, так как жизнь накопила у него на сердце немало горя, и всякий раз, когда он говорил, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натуре это был человек добрый и мягкий, но судьбе угодно было заставить его жить в таких условиях, где эти качества, особливо мягкость, не требовались, и не только нэ требовались, но не доставляли ничего, кроме горя и душевной отравы. Он начал жить сердцем и умом в то время, когда отмена крепостного права налагала даже на самые заскорузлые натуры обязательства знать и видеть, что все это старое крепостное кончилось и что теперь ничего этого не будет. Приятель мой принадлежал не к заскорузлым натурам и не поневоле думал, что все это кончилось, а верил в это и знал это по сущей совести. Он начал жить, думая, что теперь все пойдет "по-хорошему", тихо, смирно и благородно; думая, что "тихо, смирно и благородно" и есть то новое, что началось и что устранило старое, не тихое, не смирное и не благородное. Однако "по-хорошему" не вышло, развилась ненасытная алчность и жестокость своекорыстия, и навстречу им пришла жестокость мести. Приятель мой, с своими тихими планами жизни "по-хорошему", с ассоциациями "хороших людей", с ссудными товариществами, со школами и чтением мужикам "Хоря и Калиныча", оказался совершенно ненужным в этой битве "на чистоту"; но оставаясь "между" господствовавшими течениями жизни, был измолот ими, как зерно между двумя жерновами, был, если можно так выразиться, не съеден жизнью, а изжеван, измят ею, но так измят, что в нем не оставалось буквально живого места ни в теле, ни в душе. Обилие всевозможного рода жестокостей, встреченных им в течение жизни при решении вопросов, иногда самых гуманных, жестокостей, иногда совершенно затмевавших цели, во имя которых пускались они в ход, доходивших до виртуозности в преследовании человека, так, зря, без разбору, испугало его. Он не то чтобы перестал верить в светлые и теплые дни, а отвык, боялся думать об этом, чтобы не получить какого-нибудь нового удара по незажившему, избитому месту. Не принадлежа к числу торжествовавших и не попав "в стан погибающих", он тем не менее много, ужасно много пережил мыслью и там и здесь, много видел и много думал о русской жизни и о русском народе, но "изжеванная" жизнь сделала то, что мысли его были несколько односторонни и, сколько можно судить, сосредоточивались на решении вопроса: "почему из всех благ, материальных и нравственных сокровищ, доставшихся русскому человеку даром, не выходит ничего, кроме взаимного мордобития?" Решение этого вопроса, а также боль тела и боль духа, подаренные ему неудачным опытом жизни, заставляли его с особенною внимательностью останавливаться на мрачных явлениях жизни, явлениях, режущих нервы. А так как это больно и неприятно, то Протасов — такая была фамилия у моего приятеля — предпочитал молчать; молча шагал по целым часам из угла в угол, молча курил, или, вернее, ел углом рта мундштук папиросы, и когда говорил, то речь его была неласкова, почему вместо Протасова его почти все знакомые называли Пигасовым, памятуя одно из действующих лиц тургеневского романа. В настоящее время Протасов ехал в Петербург хлопотать о каком-нибудь "местишке" в какой-нибудь железнодорожной конторе, так как небольшое именьице, доставшееся от матери, в котором Протасов проживал последние годы с женой и тремя детьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было накануне продажи. Проездом в Петербург он заехал ко мне, и вот уж два дня как мы занимаемся с ним самым успокоительным и самым дружеским молчанием. Вероятно, промолчав еще таким же приятным образом день или два, Пигасов (так называть его почему-то всем его знакомым кажется правильнее) взял бы шапку, надел галоши, пожал бы мне руку и молча как приехал, так и уехал бы в Питер; но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему язык, и развязало так, как, может быть, не случалось десятки лет.
Обстоятельство это не заключает в себе ровно ничего чрезвычайного. Дело только в том, что наш молчаливый дуэт, обещавший окончиться мирным и молчаливым сном под шум метели, был нарушен появлением нового, но не молчаливого, а, напротив, весьма разговорчивого лица. Ничего особенного не представляет и это новое лицо, но сказать о нем два слова необходимо. Это был молодой малый, или, лучше сказать, "парень" лет двадцати, по фамилии Березников. Происхождения он был купеческого, и лет десять тому назад отец его торговал красным товаром в одном из окрестных тихих уездных городков и здесь же десять лет назад умер, оставив вдове и сыну небольшой деревянный дом и флигель с лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, дом подновила и отдала под помещение уездной управы, а сама стала жить с сыном во флигеле. На деньги, которые остались от продажи лавки и которые получались с управы, жили они не богато, но и не бедно; мать молодого Березникова занималась тем, что пила чай, плакала, ходила в церковь да баловала своего сына, а сын рос и ничего не делал. Но что-то помешало ему сделаться саврасом, шатуном, полюбить трактир, биллиард и кулацкую наживу; какая-то врожденная деликатность отталкивала его от этого, и хоть он ничего не делал, но хотел что-нибудь делать, и притом хорошее. В настоящую минуту это был дюжий, здоровый и сильный парень, который делал и думал то, что заставлял его делать случай, хотя случай этот, повторяю, никогда не отзывал его ни в кабацкую, ни в кулацкую компанию. Единственный сын у матери, он не подлежал воинской повинности, не нуждался в куске хлеба, был совершенно свободен, здоров и силен, но вопрос "что делать?" тем сильнее угнетал его в деревенской и уездной глуши, что "нажива", которою этот вопрос разрешается всего чаще, не прельщала его.
— Что мне делать? Скажите, пожалуйста! — иногда как бы в изнеможении вопрошал этот здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись из каких-нибудь странствований, которые он любил делать пешком и даже бегом!..
— Да вы что бы хотели делать?
— Да чорта мне хотеть? Кабы я хотел, я бы не спрашивал…
— Вы что знаете?
— Да ни чорта я не знаю!..
— Так какое же вам дело? Ничего не знаете и ничего не хотите.
— Так неужто мне пропадать?
— Ну, возьмите какое-нибудь место… на железной дороге… в управе.
— За каким же чортом?
— Ну все-таки будет занятие!
— Да за каким же чортом мне это занятие? Жрать? Так у меня и без него есть, что есть: пошел к матери, похлебал щей — вот и все, а строчить там в конторе или в канцелярии всякую ерунду — зачем это? Мне надо знать, что я пользу делаю кому-нибудь, тогда я согласен.
— Так подумайте хорошенько, может и выберете какое-нибудь дело…
— Уж я думал и вижу, что камень на шею да в воду — одно! Впрочем, нет ли у вас книг каких-нибудь? Я хочу читать. Надо читать дозарезу, одно спасенье… Дайте мне книг, пожалуйста, сколько у вас есть…
После таких разговоров Березников уходил домой, унося с собой целый ворох книг, связав их собственным кушаком (он ходил в русском платье). Книги были всегда самого разнообразного содержания и собранные кой-как: третья часть одного сочинения, вторая другого, тут и роман с иностранного, и брошюра об уходе за скотом, и толстый отчет земского собрания. Нахватав всею этого так, зря, без разбору и толку, и притом второпях, под давлением мысли о неотложнейшей необходимости читать "дозарезу", — он немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходил домой "читать" и пропадал на неделю, на две. Чрез две недели он приносил ворох прочитанных книг и на вопрос: "Ну, что?" отвечал: "Прочитал всё… башка трещит, бог знает, до чего… Все хорошо и любопытно, — а точно кирпичами голову заложило… чистая смерть! Уж я дрова сегодня рубил целый день — никак в чувство не приду". Заходил разговор о систематическом чтении, о том, что так читать нельзя, что от такого безалаберного чтения может получиться отвращение к книге. Березников всегда соглашался, говорил: "да-да-да, верно", но прибавлял: "только уж после… теперь у меня башка ничего не примет… теперь я пойду проветриться… тут у меня есть знакомые охотники на тетеревов"… И уходил, пропадал опять неделю, две-три, принося потом целый ворох всевозможных, хотя и в высшей степени беспорядочных рассказов и наблюдений.