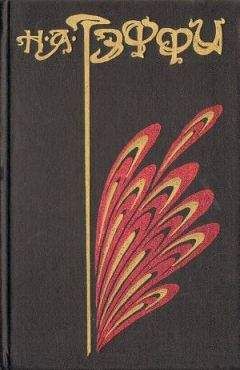Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая)
Собрание сочинений в пяти томах
Том 2. Карусель. Дым без огня. Неживой зверь
Тебе, пришедшему ко мне на рассвете дня,
Тебе, озарившему мое тусклое время,
Тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой,
Посвящаю я, благодарная, эти строки.
Он пришел действительно рано, часов в девять утра.
Вид у него был деловой, озабоченный. Говорил он веско, слегка прищуривал глаза и проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого редкозубого рта слегка кривились презрительной улыбкой существа высшего.
— Аксинья говорила — нужно вам двери покрасить. Эти, что ли? — спросил он меня.
— Да, голубчик. Вот здесь, в передней, шесть дверей. Нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев. Понимаете? Он презрительно усмехнулся.
— Я вас очень понимаю.
И, прищурив глаз, посмотрел на дно моей души.
Я слегка смутилась. Никто не любит, когда его очень понимают.
— Так вот, не можете ли вы сейчас приняться за дело?
— Сейчас?
Он усмехнулся и отвернул лицо, чтобы не обидеть меня явной насмешкой.
— Нет, барыня. Сейчас нельзя.
— Отчего же?
Ему, видимо, неприятно было объяснять тонкости своего ремесла перед существом, вряд ли способным понять его. И, вздохнув, он сказал:
— Теперича десятый час. А в двенадцать я пойду обедать. А там, то да се, смотришь, и шесть часов, а в шесть я должен шабашить. Приду завтра, в семь, тогда и управлюсь.
— А вы хорошо краску подберете?
— Да уж будьте спокойны. Потрафим.
На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение:
«Последний нонешний дене-очек!»
Оделась, вышла в переднюю.
Маляр мазал дверь бледно-розовой краской.
— Это что же, голубчик, верно, грунт?
Он презрительно усмехнулся.
— Нет, это не грунт, а окраска. Это уж так и останется.
— Да зачем же? Ведь я просила красную, под цвет обоев.
— Вот эту самую краску вы и хотели.
Я на минутку закрыла глаза и обдумала свое положение. Оно было довольно скверное.
Неужели я вчера сошла с ума и заказала розовые двери?
— Голубчик, — робко сказала я. — Насколько мне помнится, я просила красные, а не розовые.
— Энто и есть красные, только от белил оне кажутся светлее. А без белил, так оне совсем красные были бы.
— Так зачем же вы белила кладете?
Он смерил меня с ног до головы и обратно. Усмехнулся и сказал:
— Нам без белил нельзя.
— Отчего?
— Да оттого, что мы без белил не можем.
— Да что же: краска не пристанет или что?
— Да нет! Какое там не пристанет. Где же это слыхано, чтобы масляная краска да не пристала. Очень даже вполне пристанет.
— Так красьте без белил.
— Нет, этого мы не можем!
— Да что вы, присягу, что ли, принимали без белил не красить?
Он горько задумался, тряхнул головой и сказал:
— Ну, хорошо. Я покрашу без белил. А как вам не пондравится, тогда что?
— Не бойтесь, понравится.
Он тоскливо поднял брови и вдруг, взглянув мне прямо на дно души, сказал едко:
— Сурику вам хочется, вот чего!
— Что? Чего? — испугалась я.
— Сурику! Я еще вчерась понял. Только сурику вы никак не можете.
— Почему? Что? Почему же я не могу сурику?
— Не можете вы. Тут бакан нужен.
— Так берите бакан.
— А мне за бакан от хозяина буча будет. Бакан восемь гривен фунт.
— Вот вам восемь гривен, только купите краску в цвет.
Он вздохнул, взял деньги и ушел.
Вернулся он только в половине шестого, чтобы сообщить мне, что теперь он «должен шабашить», и ушел.
«Последний нонешний дене-очек» разбудил меня утром.
Маляр мазал дверь тусклой светло-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком.
— Это что же… грунт? — с робкой надеждой спросила я.
— Нет-с, барыня, это уж не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели!
— Так отчего же она такая белая?
— Белая-то? А белая она известно отчего — от белил.
— Да зачем же вы опять белил намешали?
Красили бы без белил.
— Без бели-ил? — печально удивился он. — Нет, барыня, без белил мы не можем.
— Да почему же?
— А как вам не пондравится, тогда что?
— Послушайте, — сказала я, стараясь быть спокойной. — Ведь я вас что просила? Я просила выкрасить двери красной краской. А вы что делаете? Вы красите их светло-коричневой. Поняли?
— Как не понять. Очень даже понимаю. Слава Богу, не первый год малярией занимаюсь! Краска эта самая настоящая, которую вы хотели. Только как вам нужно шесть дверей, так я на шесть дверей белил и намешал.
— Голубчик! Да ведь она коричневая. А мне нужно красную, вот такую, как обои. Поняли?
— Я все понял. Я давно понял. Сурику вам хочется, вот что!
— Ну, так и давайте сурику.
Он потупился и замолчал.
— В чем же дело? Я не понимаю. Если он дорого стоит, я приплачу.
— Нет, какое там дорого. Гривенник фунт. Уж коли это вам дорого, так уж я и не знаю.
Он выразил всем лицом, не исключая и бородавки, презрение к моей жадности. Но я не дала ему долго торжествовать
— Вот вам деньги. Купите сурику.
Он вздохнул, взял деньги.
— Только сурик надо будет завтра начинать. Потому теперь скоро обед, а там, то да се, и шесть часов. А в шесть часов я должон шабашить.
— Ну, Бог с вами. Приходите завтра.
«Последний нонешний дене-очек»…
Он мазал дверь тускло-желтой мазью и торжествовал.
— Я же говорил, что не пондравится.
— Отчего же она такая светлая? — спросила я, и смутная догадка сжала мое сердце.
— Светлая?
Он удивлялся моей бестолковости.
— Светлая? Да от белил же!
Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он.
Какой-то мыслитель сказал, что есть особая красота в молчании очень близких людей.
«Он» очнулся первый.
— Можно кобальту к ей подбавить.
— Кобальту? — чуть слышно переспросила я и сама не узнала своего голоса.
— Ну, да. Кобальту. Синего.
— Синего? Зачем же синего?
— А грязнее будет.
Я встала и молча вышла. А он пошел шабашить.
На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел. Пошла в переднюю и стала ждать.
Было около шести утра. Меня слегка знобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники на тетеревином току испытывают нечто подобное.
Наконец он пришел.
Он шел, деловито сдвинув рыжие брови. Он нес большое ведро белил.
— Стой! — крикнула я. — Это что?
— А белила.
— Ставьте тут за дверь. Давайте краску сюда. Это сурик?
— Сурик.
— Это бакан?
— Бакан.
— Мешайте вместе.
Он взглянул на меня, как смотрят на забравшего власть идиота: «куражься, мол, до поры, до времени». Нехотя поболтал кистью.
— Видите этот цвет? — спросила я.
— Вижу. Ну?
— Ну, вот этим цветом вы мне и выкрасите все шесть дверей.
— Ладно, — усмехнулся он. — А как вам не пондравится, тогда что с вами заведем? А?
— Красьте двери этим цветом, слышите? — твердо сказала я и вся задрожала. — Это я вам заказываю. Поняли?
— Ладно, — презрительно скривился он и вдруг деловито направился к ведру с белилами.
— Куда-а! — закричала я не своим голосом. Он даже руками развел от удивления.
— Да за белилами же!
* * *
С тех пор прошла неделя. Двери выкрасил другой маляр, выкрасил в настоящий цвет, но это не радует меня.
Я отравлена.
Я целые дни сижу одна и мысленно беседую с ним, с рыжим, бородавчатым.
— Голубчик, — говорю я, — почему же вы не можете без белил?
Он молчит, и жуткая мистическая тайна окутывает это молчание.
Ему, — о, слабое утешение! — ему, неизъяснимому, озарившему странной загадкой мое тусклое время, непонятно зачем пришедшему, неведомо куда ушедшему, рыжему маляру с коричневой бородавкой, посвящаю я эти строки.
И как перед тайной, равной тайне смерти, склоняюсь и благоговейно шепчу:
— Я ни-че-го не по-ни-маю!
Адвокат Недынин в продолжение пятнадцати лет заучивал свои речи перед зеркалом.
— Господа присяжные! Господа судьи! — надрывался он, разъяряясь на собственное отражение, пучившее на него из зеркала круглые глаза. — Господа судьи! Перед вами жертва ростовщицы, так сказать, паука в юбке!
Голос адвоката Недынина, гулкий и раскатистый, заставлял стоном стонать весь дом.
Жена, обвязав голову платком, запиралась в спальне и молча ждала мигрени.
В кухне кухарка говорила горничной, тяжело вздыхая:
— Наш-то опять свою обедню служит, чтобы им всем перелопнуть.