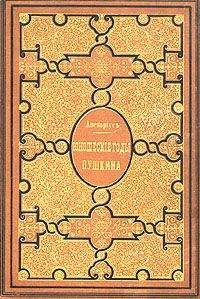Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен…
…Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
"Поэт"
Глава I
Лицейское междуцарствие
Лошади шли шагом и скоро стали.
— Что же ты не едешь? — спросил я ямщика с нетерпением.
— Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка. — Невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом.
"Капитанская дочка"
В солнечный полдень весною 1814 года по крайней аллее царскосельского дворцового парка, прилегающей к городу, брели рука об руку два лицеиста. Старший из них казался на вид уже степенным юношей, хотя в действительности ему не было еще и шестнадцати лет. Но синие очки, защищавшие его близорукие и слабые глаза от яркого весеннего света, и мечтательно-серьезное выражение довольно полного, бледного лица старообразили его. С молчаливым сочувствием поглядывал он только по временам на своего разговорчивого собеседника, подростка лет пятнадцати, со смуглыми, неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами лица.
— Что же ты все молчишь, Дельвиг? — нетерпеливо прервал последний сам себя и, сняв с своей курчавой головы форменную фуражку, стал обмахиваться ею. — Однако, как жарко!..
— Да… — согласился Дельвиг, как бы очнувшись от раздумья.
— Что "да"?
— Жарко.
— Ну, вот! Битый час рассыпаю я перед ним свой бисер…
— Да я совершенно согласен с тобой, Пушкин…
— В чем же именно? Ну-ка повтори!
Дельвиг усмехнулся пылкости приятеля и дружелюбно пожал ему рукою локоть.
— Повторить, брат, не берусь. Я следил не столько за твоим бисером, как за тобой самим, и с удовольствием вижу, что ты делаешься опять тем же живчиком, каким был до смерти Малиновского.
— Да, жаль Малиновского! — вздохнул Пушкин, и легкое облако грусти затуманило его оживленный взор. — Такого директора нам уж не дождаться…
— Ну, жаловаться нам на свою судьбу покуда грех: учись или ленись — ни в чем ни приказа, ни заказа нет; распевай себе свои песни, как птичка Божия…
— То-то, что еще не поется!.. Смотри-ка, кого это к нам несет? — прибавил он, подходя к чугунной решетке парка. — Такую пыль подняли, что и не разглядишь.
Из-за столба пыли, приближавшегося по большой дороге, вынырнула в это время верхушка старомодной почтовой громады колымаги.
— Ноев ковчег! — рассмеялся Пушкин. — А на козлах-то, гляди-ка, рядом с ямщиком, старая ведьма киевская!..
— И нас с тобой, кажется, увидела, — подхватил Дельвиг, — машет сюда рукой…
— Верно, тебе, барон!
— Нет, я ее не знаю. Вот и зубы оскалила, головой кивает: верно, тебе, Пушкин.
Но Пушкин уже примолк и судорожно схватился рукою за холодную решетку.
"Неужели это няня Арина Родионовна?" — промелькнуло у него в голове, и дух у него заняло, сердце забилось.
Между тем колымага по ту сторону решетки поравнялась уже с ними. "Киевская ведьма" наклонилась с козел к окну колымаги. И вот оттуда, из-под развевающегося голубого вуаля, выглянуло свежее, как розан, личико.
— Александр! — донеслось к нему. Белый носовой платок взвился в воздухе — и колымага прогромыхала мимо, заволакиваясь прежним облаком пыли.
— Оля! — вырвалось у Пушкина, и он бегом пустился по тому же направлению, вверх по аллее, к выходным воротам парка.
— Кто это? — кричал ему вдогонку Дельвиг.
— Наши! — ответил, не оглядываясь, Пушкин и, добежав до ворот, бросился через улицу к лицею.
"Ноев ковчег" стоял уже у лицейского подъезда. Швейцар высаживал оттуда под руку видную даму лет тридцати пяти.
— Матушка! Какими судьбами? — окликнул ее по-французски Пушкин и хотел кинуться к ней на шею.
— Что с тобой, Александр? Обниматься на улице! — на том же языке охладила мать его неуместный порыв и дала ему приложиться только к ее лайковой перчатке.
Барон Дельвиг остановился на тротуаре в десяти шагах от них и был невольным свидетелем этой форменной встречи.
"Так вот она, Надежда Осиповна Пушкина, прекрасная креолка, как зовут ее во всей Москве, — сказал он про себя. — Действительно, она еще очень хороша, и какое изящество в каждом движении, какая надменность в осанке!"
Вслед за Надеждой Осиповной из колымаги выпорхнула, уже без помощи швейцара, молоденькая барышня. По фамильному сходству Дельвиг тотчас сообразил, что это сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. Она, как видно, приняла к сведению замечание матери, потому что мимолетом только коснулась губами щеки брата.
Зато сползшая с козел старушка няня дала полную волю чувствам: пригнув к себе голову своего питомца, она так и прильнула к нему, осыпая поцелуями то одну его щеку, то другую.
— Сердечный ты мой! Сокровище мое! Единственный мой!.. — приговаривала она.
— Ты с ума сошла, Родионовна?! — старалась ее урезонить барыня.
— Помилуйте, сударыня! — оправдывалась расчувствовавшаяся старушка. — Не я ли его с самых пеленок взростила? Дороже он мне и родных-то ребят, ей-Богу, правда!
— Ну, ну, не рассуждай, пожалуйста! Полезай себе опять на козлы: скоро поедем дальше, — оборвала ее Надежда Осиповна; потом обратилась по-французски к сыну: — А уж тебе-то как не совестно, Александр?
Александр насилу высвободился из объятий няни; на глазах его блестели слезы, когда он взглянул на стоявшего тут же Дельвига. Выражения глаз последнего нельзя было заметить за синими очками, но игравшая на губах его улыбка как бы говорила: "Вот тебе и киевская ведьма!"
Раскрасневшийся Пушкин только улыбнулся в ответ: старушка няня его, хотя и вся бронзовая от загара, имела такую простодушную, чисто великорусскую физиономию и выказала к нему такую непритворную материнскую нежность, что заподозрить в ней малорусскую ведьму, конечно, никому бы и в голову не пришло.
Надежда Осиповна вошла между тем в прихожую лицея и на ходу, через плечо, небрежно сказала швейцару:
— Нельзя ли позвать ко мне пансионера Льва Пушкина?
— Слушаю-с, ваше превосходительство! — подобострастно отвечал швейцар, который с первого взгляда признал в ней по меньшей мере генеральшу.
Надежда Осиповна стала подниматься во второй этаж, шурша по каменным ступеням лестницы своим дорожным шелковым платьем; дочь и сын следовали за нею.
Здесь же, на лестнице, Ольга Сергеевна, украдкой от матери, крепко чмокнула брата и окинула его сияющим взглядом.
— Как ты, однако, Александр, вырос!
— И ты не меньше стала, — отшутился он, — совсем как взрослая — в длинном платье!
— Да ведь мне уж семнадцатый год. Ты меня сколько лет не видал. Но вот теперь мы будем видеться часто. Лето мы еще проведем в Михайловском,[1] а к осени совсем уже переедем в Петербург.
— Вот как! И папа тоже? Отчего он не с вами?
— Папа? Да разве ты не знаешь, что он зимой еще отправился из Москвы в Варшаву начальником этой комиссариатской, что ли, комиссии нашей резервной армии?
— Да, правда, ну и что же?
— Ну и надоело ему, кажется, бросает службу и на днях должен съехаться с нами в Петербурге.
В приемной Надежду Осиповну встретил сухощавый и вертлявый чиновник. Осведомившись о цели ее прибытия, он с неловким поклоном отрекомендовался ей:
— Надзиратель по учебной части Василий Васильевич Чачков.
— Чачков? — переспросила Надежда Осиповна. — А не Пилецкий?
— Совершенно справедливо-с, — залебезил надзиратель, — предместник мой точно назывался Пилецкий-Урбанович, но месяца два назад его… как бы лучше выразиться?..
Он замялся и опасливо оглянулся на молодого Пушкина. Но тот с сестрою удалился уже в углубление окна, чтобы продолжать с нею там прерванную беседу.
— Не угодно ли вам присесть, сударыня? — спросил Чачков, указывая почетной гостье на клеенчатый диван.
Она села, а он остался на ногах перед нею и продолжал пониженным голосом:
— С предместником моим, изволите видеть, учинилось здесь нечто необычайное… Разве сынок ваш ничего не отписал вам?
— Писал, кажется, — как теперь припоминаю, — что Пилецкий ушел, но и только.
— Ушел… гм! Да-с… но форсированным маршем.
— То есть его "уходили"?
— Хе-хе-хе! Тонко изволили заметить. Однако мало ли что болтают. Не всякому слуху верь. Воспитанники, словно сговорившись меж собой, хранят дело в тайне. Нам же, начальству, ведомо лишь, что у них с господином Пилецким было секретное собеседование при закрытых дверях. О чем? Одному Богу да самим им только известно. На другое же утро господина Пилецкого и след простыл: укатил в Петербург невозвратно. Да-с, сударыня! — вздохнул преемник Пилецкого и снова покосился на Пушкина. — Могу сказать, тяжеленько-таки нынче нашему брату! Директора нам все еще не дают, и живем мы между небом да землей, как на шаре воздушном.