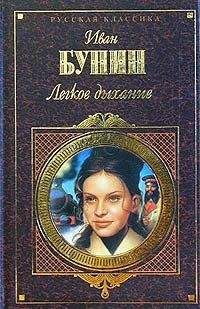С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.
Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.
Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.
Казалось, что стоявший возле моста любуется.
Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.
– Держись, срежу! – крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.
Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ… И, махнув рукой, закашлялся.
Студент сбежал к мосту, – он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.
Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились…
Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.
Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо – лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело – щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.
– Застыл, старик? – крикнул студент с деланой бодростью.
Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.
– Нет, – ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. – Застыть не застыл…
И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:
– Застыть не застыл. А вот здоровье…
Он приподнял грудь:
– А вот здоровье все хужеет!
И легонько двинулся вперед.
Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики… И как это он ухитряется ходить по такому морозу?
– Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! – сказал студент.
– Обужа, верно, плоха, – согласился нищий. – А вот одежа… Нет, одежа ничего. У меня под ней кофта ватная.
– Все-таки студишься небось без валенок-то?
– Студишься… Бока колет… Закашляешься – прямо смерть.
Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.
– Дальний?
– Дальний… Из-под Ливен.
– Давно удушье-то?
– Удушье-то? Давно…
– Селитру не жег? Очень помогает.
– Нет. Перец… пил.
Студент покачал головою.
– Глупо, – сказал он. – Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду… Понимаешь?
– Дело хорошее… Как не понимать…
– Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь – полегчает.
И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:
– Это можно. Деньги не велики.
– А ночевать-то где ноне будешь?
– Ночевать-то? Ночевать везде можно… В Знаменском ночую…
– Как в Знаменском? – сказал студент. – Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!
– Мне спешить некуда, – ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:
– Побор в мешках-то?
– Ну, побор! Добришко… Рубахи, портки. Порток у меня много… Трое…
За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.
– Слушай, – сказал студент, – пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал…
Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона… И не спеша ответил:
– Беден только бес, на нем креста нет. А мне они, почесть, без надобности. А коли хочется, дай.
– Ну вот, и пойдем.
– А пойтить… не пойду. Ночую в Знаменском, ежели… дойду…
И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.
Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.
– На-ка вот тебе полтинничек, – слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. – Да скажи, как поминать тебя, – прибавил он шутливо.
Нищий усмехнулся.
– А мне теперь ничего, полегчало, – ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.
Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:
– Вот за это спасибо… А поминать меня, бог даст, не придется… Дойду.
– Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? – спросил студент.
– Звать-то? Звали Лукой… А уж чем чуден я – не знаю.
– Да ведь замерзнешь!
– И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не глянешь. А найдет – везде. Да и помирать-то не десять раз, а всего один.
– В рай, значит, спешишь попасть? – сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.
– Зачем в рай? Это еще дело темное – не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.
Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:
– Это тебе-то не плохо?
Нищий тоже взглянул ему в глаза.
– А что ж мне? – спросил он. – Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.
– Живешь, как птицы небесные?
– А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.
– А ты что? Философ? Атеист?
– Не понимаю я этих слов.
– Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?
Нищий подумал.
– В Бога нет того создания, чтоб не верило, – твердо сказал он.
Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:
– Ну с богом!
– Стало быть, прощайте, – отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. – Спаси Христос…
И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы…
Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой – лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, – чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, – был уже девятый, а матери все не было.
– Дикарь! – говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.
Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету божьего не видно, – так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море – и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды…
Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели – два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой…