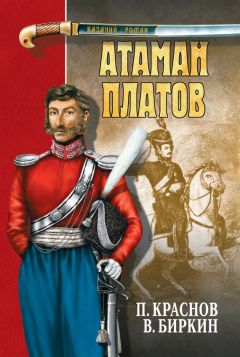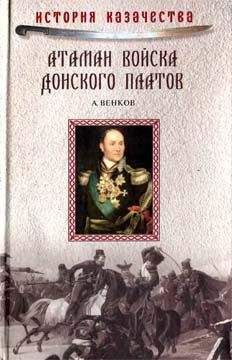Петр Краснов, Василий Биркин
Атаман Платов; Осиное гнездо
…С французами у нас колеблется и так и сяк, но кажется, война будет неизбежна, знайте это для себя, ибо есть о сем секрет…
Письмо Платова к Кирсанову,17-го августа 1811 г. из СПб.Военно-Ученого Архива. Дело № 1835Зимой 1811 года в одной из изб Старочеркасской станицы за сулеёй вина собралось знатное общество. Два седоусых полковника – Сипаев и Луковкин, в расстегнутых мундирах, есаул-атаманец и молодой казак, не по форме, по-домашнему одетый, бледнолицый и худощавый, по фамилии Каргин, Николай Петрович, сидели на накрытых коврами лавках, судили и рядили о разных делах, время от времени окуная длинный ус в самую середину серебряной кружки или бокала заграничной работы.
Иногда дверь отворялась, и Марья Сергеевна, жена полковника Луковкина, входила с подносом, уставленным чарками с вином и наливкой, и, кланяясь в пояс гостям, обносила их винной брагой, приговаривая нараспев:
– Чарочка-каточек, катись ко мне в роточек, чарочка-каток, катись ко мне в роток.
Тогда гости брали чарки и быстро осушали их, мощно крякая и рукавом шитых мундиров утирая усы. Один Каргин не пил. При каждом появлении жены Луковкин хмурил брови и сердито смотрел в сторону. А появлений таких, надо думать, было уже немало, по крайней мере, лица гостей раскраснелись, споры стали оживленней, речи звучали громче.
– Я тебе говорю, Федор Семенович, – хватая за рукав Луковкина, говорил Сипаев, – что это не мир, а позор для России. Что «они» под Фридландом глупили, так это не есть оправдание, чтобы мир заключать. А Тильзит – безобразие! И наш Матвей Иванович то понял… Ты слыхал, чай, что он во дворце сделал?
– Ну? – сердито спросил Луковкин.
– Когда ему, значит, в Молдавскую армию отъезжать, был у Коленкура большой обед.
– Стой. Что за птица такая Коленкур?
– Вот то-то что птица! Бонапартов посланник при нашем дворе.
– Так. Ну, дальше?
– Да, так вот был у него большой обед по случаю получения портрета Бонапартова в короне и с порфирой, Барклай был, еще много знатных персон пособралось. Ну, а Матвея Ивановича ты знаешь – он ведь как ляпнет, так топором ровно обрубит, да на всю залу при этом голосок-от, значит, командный. Вошел он в залу, огляни портрет, да и молви: «Эким шутом написан…» Ну, сам знаешь, какая тамоха[1] поднялась. Шу-шу, шу-шу, то, другое, третье… Коленкуру… а тот, французская лиса, сейчас и до государя. Так и так, ваше величество, оскорбление и прочее. Мы, говорит, дружеской державы, вы, говорит, братьями именуетесь, не могу, говорит, допустить этакой позор для французской короны..
– А, ты, егупетка подла[2], – сорвалось с языка молчавшего до сих пор и сидевшего в углу атаманского есаула.
– Государь осерчал. Послали за Матвеем Ивановичем. Является: кавалерия на груди, бриллиантовая сабля, что матушка Екатерина пожаловала, у бедра, – словом, со всем причиндалом. Говорил ты то и то? – спрашивает государь. «Говорил, государь. От твоей царской милости не скрою. Я давно отказывался от его иноземной хлеба-соли. Мы не рождены для супов; щи да каша солдатская еда наша». Вот каково отпалил.
– Важно. Его взять на это. «Притворный» он человек. Слыхал, ведь Дон под турецкого султана отдать хотел.
– Брешут.
– Видно, не брешут, коли в крепости сидел Матвей Иванович.
– Так то облыжно говорили, с того и сидел.
– Нет, брат, дыма без огня не бывает!
– Слушайте, – тихо, озираючись, сказал Сипаев, – а вы думаете, Черкасск-то зря перенесли на новое место? Что там – ни земли, ни воды – гора, пустота, пакость одна. А ведь перенесли, да и только, и разговору нет. Смекаете зачем?
– К имению Мишкину ближе ездить, недалече лошадей гонять, – мрачно молвил есаул.
– Ах вы, фармазон вы настоящий. На своего шефа этакое подозрение!
– Мне предположительно, что просто не смекнул Матвей Иванович, что там худо будет, вот и перенес он нашу столицу. Военного ума да хитрости у него палата, а гражданской сообразительностью, видно, Бог обидел.
– Тоже фармазон, – сказал Сипаев. – А невдомек вам, что для того удалил он нашу столицу от реки и от моря, от дорог на Россию, чтобы удалить нас от невоенного влияния России, чтобы сомкнуться в тесной казачьей семье и не принимать иногородних[3] обычаев! – с жаром воскликнул седоусый полковник и ударил кулаком по столу.
– Вздор, – громче прежнего сказал Луковкин, – полки наши расползлись, как сильные котята от матери, по всему миру крещеному. Сегодня в Вихляндии, назавтра под немца, в Итальянском королевстве были – сам ты пьешь из венецейских бокалов, что привез из Лозанны, дочь твоя по старине ли воспитана? С любым казаком заговорит, и белоручка при этом. Клавикорды ей выписал, французин-ку приставил, лопочет на заграничный манер… Да и сам Матвей Иванович – ристалища да погулянки делает, из «стенки» забаву устроил! Какое же тут охранение. Поздно!
– Он хорошее переймет, а худого не тронет.
– Не тронет. Что посты-то блюдет да штаны широкие носит, то и казак! Нет, казак, по мне, не в штанах; казака хоть гусаром выряди – он все одно казак, и все… Теперь вот чекмени пошли форменные, шитье дали, кивера, что же, разве хуже с того стали казаки? Попомни, в седьмом году под Алленбургом, на Пассарге, разве Степан Федорович Балабин не вел на победы их? – кивнул Луковкин на атаманского есаула, который самодовольно покрутил ус. – А Рассеватское дело в Турции, а под шведом?
– Все это верно, но только зря мы приняли шитье это да кивера великороссийские. Сегодня кивер, а завтра в регулярство писать станут. Вот ты говорил про Матвея Ивановича, что недалекий он человек, нет, он дальше нашего видит. Он это знает. Он и рейтузы наденет, а солдата из казака не позволит сделать.
– Ладно. Прикажут, и сделает.
– Матвей-то Иванович?. Ты посмотри на него. Да спроси любого казака про него. Это обаятельный человек Что, малолетка, Николай Петрович, верно я говорю?
Вспыхнул весь Каргин. Никогда не доводилось ему со стариками беседовать. Встал он с лавки и нежным, певучим голосом заговорил:
– Атаман наш? Жить за него и умереть. Видал я его еще мальчиком. В голубом мундире, на сером коне проезжал он по Черкасску. Я в айданчики с Петей Кумшацким играл. Подъехал ко мне – а я шапку снял. «Добрый казак будешь – служи!» – сказал, да так глянул! Всего меня светом так и озарило – и ясно, и истово хорошо стало у меня на душе. Так бы вот и служил, все и служил! И турка бы бил, и француза, и всех, всех, кто враги!
– Что же не служишь? Ведь восемнадцатый пошел?
– Куда. Девятнадцать по весне будет. Отец не велит Учили меня много. Немца и француза приставили, а теперь, говорит, в университет в Москву отвезу – образованные люди, говорит, на Дону нужны. Ну, а мне куда же. Супротив отца пойдешь разве?
– Конечно, идти не след, – сказал Сипаев.
– Вот еще «письменный» человек – его отец, – кивнул Луковкин на Каргина. – Так ты в Платова влюблен? А Маня Сипаева?
Пуще прежнего вспыхнул молодой казак, даже слезы выступили на глаза.
– Ишь, краснеет-то как! Словно девушка-невеста.
– Ну, не мучьте его, – промолвил атаманец, – мы с ним в заговоре. Ведь да?
– Да, если бы вы были такой добрый.
– Ладно, ладно, – махнул рукой есаул и опять прислушался к спору стариков.
– Тильзит, – хрипло кричал Сипаев, – позор! Фридланд – поражение! Да-с.
– Фридланд – ошибка в выборе позиции и славнейший день всей кампании.
– Славнейший! Бреши! Ты вот спроси у атаманца, что после-то было. Бегство, позор. Да… Вот спроси, спроси Зазерскова.
– Что я буду спрашивать, – громовым голосом на всю избу кричал Луковкин, – российская победоносная армия никогда не бежала. А что позиция была выбрана плохо…
– Нет. Не позиция, а то, что рано нам с Бонапартием биться – он сила!
– Однако в Италии мы били его. Сам был, знаешь.
– Эка хватил: в Италии! В Италии Александр Васильевич Суворов – сила был. Сокол!
– А нонеча – Платов.
– Платов и Суворов? Атаманы-молодцы, послушайте – ну, не спятил ли старец с ума?
– Спятил?! Ты глаза-то налил да и говоришь: «Спятил!»
– Не ты подносил; свое пил.
– А ты пей, да разум не теряй. Суворов – это гений на весь мир!
– Постой, Суворову-то что, лет семьдесят было, да притом он русский, ему ход давали, а Платов опальный, да еще казак.
– Это верно, – сказал Зазерсков, – казаку ходу нет и не будет.
– Бреши! Ермака Тимофеевича за Сибирь Доном пожаловали!