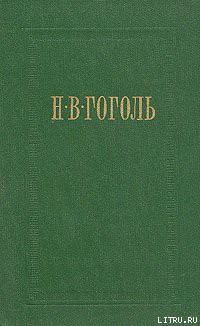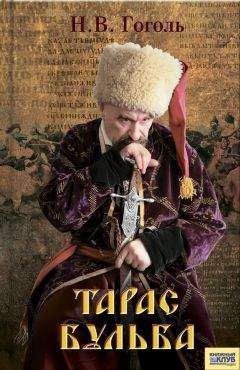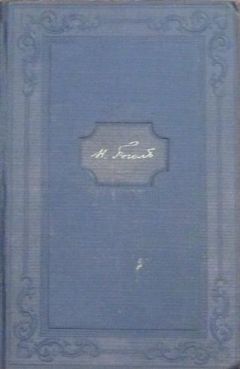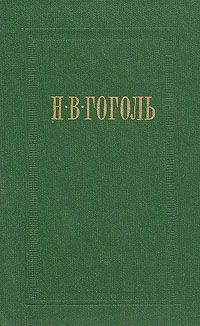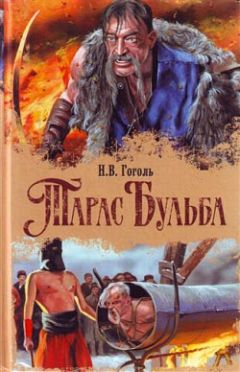I
«А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?»
Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.
Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.
«Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько», продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы».
«Не смейся, не смейся, батьку!» сказал наконец старший из них.
«Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться?»
«Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!»
«Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?..» сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.
«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».
«Как же хочешь ты со мною биться? Разве на кулаки?»
«Да уж на чем бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки!» говорил Бульба, засучив рукав. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!» И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали садить друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.
«Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума!» говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видели, а он задумал нивесть что: на кулаки биться!»
«Да он славно бьется!» говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо!» продолжал он, немного оправляясь. «Так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отец с сыном стали целоваться. «Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» говорил он, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»
«Вот еще что выдумал!» говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось… (Это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом.) Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!»
«Э, да ты мазунчик, как я вижу!» говорил Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба?
Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? — вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия, все это казна що — я плевать на все это!» Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму».
«И всего только одну неделю быть им дома?» говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!»
«Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбки да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков, тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная».
Бульба повел сыновей своих в светлицы, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украйне бородатыми Старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры и в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквях, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными, пестрыми изразцами^— все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому,