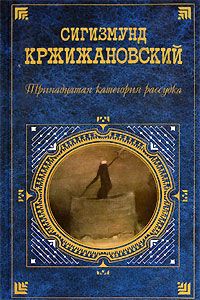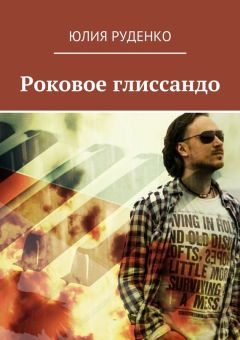Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека, с упорством нерасщепленной цельной натуры решил насильно овладеть этим самым множеством; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и омножествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, – и поезда повезли его от станций к станциям по разноязыкому и лоскутному миру. Записные тетради кандидата в писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где все чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.
И наконец, – это случилось после многих месяцев скитания, – они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки, и здесь, среди взбудораженной книжной пыли, был отыскан Ноткер Заика; хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсуществовать ровно тысячу лет тому назад: кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить оттлевшее в расцветшее. И наш незадачливый – до сих пор – писатель деятельно принялся за пересоздание Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединенного, зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нем, как однажды, гуляя по горному срыву, он услыхал визг пилы, стук молота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошел до поворота тропы и увидал артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, – вернувшись в келию, – сел за сочинение хорала «In media vita – mors» [3]. Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадях-библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: все же, с разрешения настоятеля, он унес с собой в номер гостиницы целую кипу полуистлевших нотных листов и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того неотысканного хорала. И ночью он ему приснился – величавый и горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «In media» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика, или Balbulus, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и слоги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговея пред звукосочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, хотя бы ценою слов, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пестрыми флажками, мнемоническими символами, закреплявшими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги, – тогда, задержавшись на одном каком-нибудь le alliluja, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысля слог ради иных заумных смыслов: эти упражнения Ноткера в области так называемого атексталиса особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заики завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сенгалгленце герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тотчас же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить ее в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях книги: S-um.
– Бессмысленный слог, – пробормотал из своего угла Фэв.
– Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отрывавшее начальное S от um. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил еще одну чернильную черту, отделявшую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»… и так далее и «Не воспрекословит, не возопиет и никто не услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «…Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтересован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил еще несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтем отметин, – и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или: «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчеркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова, – например: «Но Он уходил в пустынные места…» или: «И Иисус молчал», – то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы, – и всякий раз это был рассказ о вопросах, не дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь и вообще говорили, здесь было отмечено и врезано – острием мимо слов до конца. Теперь было ясно: на полуслипшихся желтых полях ветхой книги рядом с отсказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей пятое Евангелие: От молчания. Теперь было понятно и чернильное S – um: оно было лишь сплющенным Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментировать то, что… ну, одним словом, книга убила книгу – с одного удара, – и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и…
Тюд резко повернулся в сторону Papa. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушая и не слыша.
– Что же касается до заглавия, – поднялся Тюд, – то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово…
– «Автобиография», – отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком – из хихиканий, одышливых, всхрипов, клекота и подвизгов – смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.
Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслед, но знакомое пожатие, охватив локоть, остановило меня:
– Два-три вопроса, – и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выспрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успеть догнать Papa. Наконец пальцы и вопросы разжались – и я бросился вдогонку за уходившим. Под огненными свесями фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя ее, я впопыхах не заметил палки, тыкавшейся впереди идущего о тротуар: