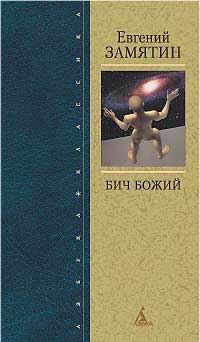И когда однажды принесли передачу от Лельки – какие-то пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья – мысли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю. Платки, полотенца, простыни – все было Лелькино, и ее тонкий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в них кровь.
Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво выглаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с таким же свежим, раздувающим ноздри запахом – раскинувшуюся на этой простыне, спящую. – Сердце рванулось, и вмиг охватило всего и толкнуло желание – целовать это холодное полотно.
Одним порывом, в котором собралось все гордое, холодное, боящееся чувства, – Белов сдавил, задушил поднявшее голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем и кипящей кровью.
* * *
Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда он проснулся.
– Если бы правда!
Закрыл глаза и одним легким усилием построил опять всю странно-красивую и трепетную картину сна – точно он не растаял еще и был где-то тут, в воздухе – сдернуть только покрывало.
…Узенькие, длинные ступени – как у древних греческих храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий – будто десятки солнц кругом.
Впереди идет она – Леля. Медленно, как богиня, идет она, ослепительно сверкая телом.
И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кругом – у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как раб – идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого – мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего.
– Это – любовь, – говорит он себе.
И они идут дальше – по белым и теплым ступеням. Все выше идут, и все ярче свет, уже и круче ступени.
Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит синими глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к ней – взять ее на руки – маленькую, слабую…
Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее золотые волосы распущенные, и в золотых волнах – белое с розовым смеется – ее маленькая, нежная грудь, так странно-близко. Так хорошо…
А сзади крадется кто-то, темною тенью давит вниз непонятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.
Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опущены. Стоит неподвижно.
Вдруг видит маленькие светлые капли – внизу на белых ступенях – шевелятся, блестят. Слезы ее – слезы!
С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сделал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протягивает он руки, умоляя.
Сверху – она опускает руки и прижимает нежно его лицо к себе – прощая.
И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев приникает к ней.
И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.
И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могучее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя природа – охватило всего и мучило, требуя повиновения.
Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама – вся была его.
Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенными волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее прекрасного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать его.
Хотелось, чтобы смеялась она – серебряным смехом, счастливая и гордая.
Хотелось, чтобы плакала она – чтобы целовать ее волосы, и глаза, и ее слезы – и утешать ее, маленькую и слабую – как ребенка.
Вытянулся весь, закусил губы.
Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охватившего, ищущего – и бессильного желанья.
– Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!
– Да. Жена… – повторил это слово, и оно было теперь строгим, таинственным и важным.
– Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье – это она. – Сказал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно решенном.
Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое, недоверчивое, спрашивающее.
– Почему она – счастье? А счастье борьбы – и победы или гибели? А мой разум?
И новый Белов радостно и смело ответил:
– Это все – кусочки жизни – и борьба, и жизнь разума. И в них работает не все мое существо, и дают они не все счастье только кусочки его. Радостно пожертвовать собою, отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли – сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все – и любовь и себя – ведь жертва будет больше. И если в жертве счастье – и счастье больше?
– Ну да, да, – радостно отвечал себе, оживая.
– А жизнь разума, борьба, творчество – ведь все это даст в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать его любимой и опять получить от нее.
– И если желание счастья – то, что двигает всеми людьми и всею жизнью – а это так, то любовь должна родить тысячи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз сильнее, смелее и красивее.
– И те, которые говорят, что любовь может мешать…
– Да ведь это я говорил, ведь это я, – вспомнил Белов и улыбнулся снисходительно.
И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и твердо, что без любви – нет счастья, без любви – страстной, сжигающей стыд – когда двое любят тело друг друга, как свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.
И что для него нет счастья – без Лельки, без ее синих глаз, без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела, без ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого ума. Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке, к жене.
Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти что не думая.
V
– Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?
Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и простучал уверенно и твердо:
– Люблю.
И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь его счастью, он добавил:
– Очень.
– А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с невестой они дадут.
Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль не явилась раньше. С невестой, с женой – должны дать. Если они люди… А бояться показать, что он знает ее – теперь уже нечего. Ведь все равно после – если она пойдет за ним…
Свидание! Счастье безумное.
Вдруг – видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать…
Как если бы солнце середь ночи – дождливой, холодной, мертвенной – выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золотистым смехом.
Да ведь оно уже почти взошло – солнце. И если оно двигается – солнце-счастье, оно совсем придет и без следа развеет тьму…
Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сложено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.
Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписан? ной бумаге и писал:
– «Опять, как вчера, я люблю тебя – больше нельзя любить – жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.
И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты – солнце и счастье – подумай: можно добиться свидания. Придешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои глаза…
Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это будет».
И опять читал сначала, и опять становилось тепло и радостно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солнцем.
Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а потом заглянул вниз – на прогулку.
Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного, дерзкого.
Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво улыбнулась ему.
И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся, чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:
– Эй! То-ва-ри-щи-и!
Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и заколыхался – и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и, дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая по сторонам тишину.
Вдруг засуетились и забегали за дверями, зазвенели ключами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось – и проснулись все.
Потом стояли около его двери и говорили:
– Это – не он. Этот – тихий.
Он слушал и хохотал, и ему было весело.
А солнце смеялось в окно, и лучи его щурились от смеха и кривлялись, переламываясь на наклонном подоконнике.
Снаружи у окна сели два голубя – самец и самка. Самец был надутый и расфранченный – в золотом воротнике вокруг шеи, а самка – маленькая и кокетливая.
– У-у-у! У-у-у! – вдруг зарычал самец важно и громко. Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, закружился там. Смешно топтался ногами и приседал.
А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не понимает, и старательно клевала железо подоконника.
Белов смотрел на них в упор в отверстие фортки и вдруг не выдержал и фыркнул.
– У-у-у! У-у-у! – опять затоптался и надулся самец.
…Ну точь-в-точь – люди, когда они кокетничают и притворяются – перед другими и перед собой, – что они ничего не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся самец, так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и корсетов, и перчаток.