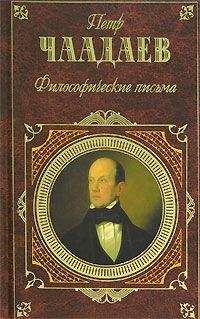Передайте, пожалуйста, Мейендорфу, что я глубоко огорчен тем, что с ним случилось, как бы ничтожно ни было это происшествие[60]. Я надеюсь, что сумеют, наконец, дать должную оценку тому злосчастному обороту мысли, который сорвался совершенно бессознательно с его пера, и что в нем увидят лишь преувеличенный комплимент, которым принято награждать любого автора любой рукописи. Нет человека, который более чем Мейендорф расходился бы со мной во взглядах. Во всей этой истории, которая приняла такой серьезный оборот, нет и следа серьезных убеждений, кроме убеждений самого автора, да и то убеждений более философского характера, уже отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным. Во всяком случае, из всех печальных последствий моей наивной уступчивости более всего огорчают меня беспокойства, причиняемые другим. Меня часто называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз говорю – аминь, – как я всегда это делаю, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба. И вот я снова в своей Фиваиде, снова челнок мой пристал к подножию креста, и так до конца дней моих; скажу еще раз: «буди, буди».
Пусть я безумец, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем очаровательным созданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха от гнетущего меня уныния[61]. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровало меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, подлинная блудница, в бальном платье и с ногами в грязи. Иван Иванович[62] находит, что старый немецкий генерал был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха-то глубоко историческая; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь. Скажите еще Пушкину, что я погружен в историю Петра Великого, читаю Голикова и счастлив теми открытиями, которые я делаю в этой неведомой стране. Было вполне естественно для меня укрыться у великого человека, который кинул нас на Запад, и просить его защиты; но, признаюсь, я не ожидал найти его ни таким гигантом, ни столь расположенным ко мне.
Ну, будьте здоровы. Меня заливают сплетни: это ваша область; придите же и скажите этому морю: «стой, не далее!» Ваше повеление, конечно, будет исполнено, и я с тем большим удовольствием вас обниму.
Безумный.[63]
NB. Нельзя ли найти в Петербурге портрет Беррье? Сегодня утром я прочитал его речь в парламенте, и седая голова моя склонилась перед этим грозным словом.
Милостивый государь, Лев Михайлович.
Несколько слов, написанных мною вчера у вашего превосходительства об моих сношениях с госпожою Пановой, мне кажется, недостаточны для объяснения этого обстоятельства, и потому позвольте мне объяснить вам оное еще раз. Я познакомился с госпожою Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее были мне соседями. Там я с нею видался часто, потому что в бездействе находил в этих свиданиях развлечение. На другой год, переселившись в Москву, куда и они переехали, продолжал с нею видеться. В это время господин Панов занял у меня 1000 руб., и около того же времени от жены его получил я письмо, на которое отвечал тем, которое напечатано в «Телескопе», но к ней его не послал, потому что писал его довольно долго, а потом знакомство наше прекратилось. Между тем срок по векселю прошел, и я не получил ни капитала, ни процентов. Спустя, кажется, еще год подал я вексель ко взысканию и получил от госпожи Пановой другое письмо, довольно грубое, в котором она меня упрекала в моем поступке. В 1834 году передал я вексель купцу Лахтину за 800 руб. Все это время я не видался с ними и даже не знал, где они находятся. Прошлого года госпожа Панова вдруг известила меня, что она здесь, и с легкомыслием объявила мне, что вексель будучи выплачен, она желает возобновить со мной знакомство, на что я отвечал, что готов ее видеть. Тогда она приехала ко мне с мужем и тут впервые узнала о существовании письма, к ней написанного и давно всем известного. Мы в это время еще раза два виделись; потом она уехала в Нижний, и более я ее не видал. Надобно еще знать, что прочие, так называемые мои философические, письма написаны как будто к той же женщине, но что г. Панова об них никогда даже не слыхала.
Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь в сумасшествии говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков, и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно, скажет, что нет. Сверх того, и муж ее то же может подтвердить.
Все это пишу к вашему превосходительству потому, что в городе много говорят об моих сношениях с нею, прибавляя разные нелепости, и потому, что я, лишенный всякой ограды, не имею возможности защитить себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем, я убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания на слова безумной женщины, тем более что имеет в руках мои бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне бредствующих умствователей.
Честь имею быть,
милостивый государь,
с истинным почтением
вашего превосходительства
покорнейший слуга Петр Чаадаев.
1837, января 7
Благодарю тебя, любезный брат, за твое доброе участие в моем приключении. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, но в этом случае мне особенно приятно было найти ее новое доказательство. Ты желаешь знать подробности этого странного происшествия, для того чтоб мне быть полезным; наперед тебе сказываю, делать тут нечего, ни тебе и никому другому, но вот ведь как оно произошло. Издателю «Телескопа» попался как-то в руки перевод одного моего письма, шесть лет тому назад написанного и давно уже всем известного; он отдал его в цензуру; цензора не знаю как уговорил пропустить; потом отдал в печать и тогда только уведомил меня, что печатает. Я сначала не хотел тому верить, но, получив отпечатанный лист и видя в самой чрезвычайности этого случая как бы намек провидения, дал свое согласие. Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Чрез две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу; у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение мое произошло 28-го октября, следовательно, вот уже три месяца, как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю быть сумасшедшим. Теперь, думаю, ясно тебе видно, что все произошло законным порядком и что просить не о чем и некого.
Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже. Говорят также, что публика крайне была оскорблена некоторыми выражениями моего письма, и это очень может статься; странно, однако ж, что сочинение, в продолжение многих лет читанное и перечитанное в подлиннике, где, разумеется, каждая мысль выражена несравненно сильнее, никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе всех поразило! Это, я думаю, должно отчасти приписать действию печати: известно, что печатное легче разбирать писаного.
Вот, впрочем, настоящий вид вещи. Письмо написано было не для публики, с которою я никогда не желал иметь дела, и это видно из каждой строки оного; вышло оно в свет по странному случаю, в котором участие автора ничтожно; журналист, очевидно, воспользовался неопытностью автора в делах книгопечатания, желая, как он сам сказывал, «оживить свой дремлющий журнал или похоронить его с честию»; наконец, дело все принадлежит издателю, а не сочинителю, которому, конечно, не могло прийти в голову явиться перед публикою в дурном переводе, в то время как он давным-давно пользовался на другом языке, и даже не в одном своем отечестве, именем хорошего писателя. Итак, правительство преследует не поступок автора, а его мнения. Тут естественно приходит на мысль то обстоятельство, что эти мнения, выраженные автором за шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, правительство не имело времени подумать и даже второпях не спросило автора, признает ли он себя автором статьи или нет. Правда, что при всем том на авторе лежит ответственность за согласие, легкомысленно им данное, то есть за одни эти слова: «пожалуй, печатайте»; но спрашивается: могут ли одни эти слова составить «corpus delicti»[66], и если могут, то соразмерно ли наказание с преступлением? На это, думаю, отвечать довольно трудно.