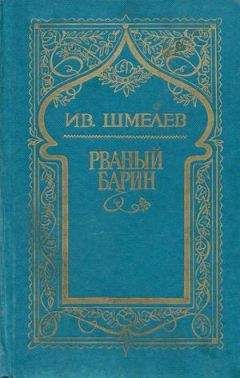Нас уже звали ужинать, как во двор въехал извозчик. С черного крыльца кучер Архип и дворник Гришка вынесли кованый жестью, с боков красный, сундучок, узел и коробок и поставили на извозчика. Кто-то уезжал.
– Пожила и будет… нагулялась… – говорил Гришка.
– Девка-то дура… навязалась сама…
– Сказывай, сама! не знаем делов, што ль?.. Третью такую выпроваживаю. Летось Машка…
– Ну, вот… Машка!., чать Ксютка… Ксютка-то опосля Машки жила…
– Ай Ксютка?.. От «самого» заполучили. Тоже маху не давал…
– Хочь и при жене…
– А што ему жена!., деньги есть, харчи хорошие… Да до каждого доведись – мимо рта не пронесешь… А девки-то ядреные все…
– Будя орать-то. Лексей Захарыч на галдарее… Ревет, поди?
– Грунька-то? ревет… Да и он-то… му-ут-ный. Две сотняги дал, будто.
– Чего ей! Опростается и опять прибегёт.
– Прибегёт…
– Да от его ли?
– От его. Парень в соках, дело молодое… на сторону не ходит. А та-то перед им вывертывает… ну и…
– Идет…
Груша, в белом платочке и тальмочке, с маленьким узелочком, вся закрасневшаяся, усаживалась на извозчика, подбирая крахмальную юбку. В окне, в глубине галереи, я заметил Леню.
– С отъездом-с, – раскланялся Гришка, подымая картуз. – Счастливого пути. На фатерку-с?..
– Да, – тихо сказала Груша, опустив голову. – Узел-то к извозчику поклали?
– Тут-с… и коробок у его. К осени опять к нам-с?
– Уж и не знаю… не знаю… Сундучок бы подвинуть…
– Нас не забывайте, Аграфена Митревна… Хочь вы нами и гнушались, а мы навсегда вам уважение… Доброго здоровья.
– Будя зубы-то чесать, – смешливо затараторила горничная Паша, в белом переднике, вынырнувшая из-за угла.
– Прощай, Грушутка!.. Дал твой-то? – понизив голос, спросила она.
– Дал. Забеги когда…
– Ну, трогай! – крикнул Гришка. – Сторонись, павлина! – толкнул он Пашу. – Угостите семечками, Прасковья Семеновна… Забывать стали… Теперь местишко-то ослобони-лось… – подмигнул он на галерею.
– У, леший, зубоскал!
– Может, и вам Бог счастья пошлет…
– Уйди, косой, не липни.
– Такая уж ваша должность веселая… А это что же у вас тут такое?.. Хо-хо-хо…
– Ну, ты! руки-то подержи!.. Не в свое корыто лезешь…
Извозчик выехал за ворота, и Груша навсегда покинула тот дом. А через неделю Гришка предупредительно втаскивал новый сундучок, и молоденькая, черноглазая Поля, шумя крахмальными юбками, входила на галерею.
И всегда в тот дом нанимали молодых горничных. Как объяснил мне всезнающий Степка, это для того, чтобы барчуку не скучно было и чтобы он «не отбивался от дома и не пропал».
– Вон у тебя Пашка-то – сливки! Чего зеваешь-то… – добавил он, разевая огромный рот.
IX
Август в начале. Подсолнечники в нашем саду наклонили грузные, почерневшие шапки. Кое-где дикий виноград у беседки тронулся искрами багрянца, и сиротливо торчат на взрытой земле кусты смородины, ощипанные курами.
Леню проводили в Питер учиться на инженера. Накануне тетя Лиза ездила в Кремль, служила молебны у Иверской, где-то у Чугунного моста и у великомученицы Варвары. Потом был молебен в путь шествующим – дома, в присутствии и нас. Дядя Захар суетлив, мрачен и так расстроен, что забыл отдать батюшке за молебен, и батюшка потом присылал дьячка напомнить. Везде кропили святой водой и даже чемоданы. Даже бабка Василиса имела озабоченный вид и неожиданно поставила перед Леней стакан сливок.
Леня ходил в конюшню проститься с Жгутом, подарил Архипу рубль и, встретив меня, потрепал по плечу и сказал ласково:
– Ну, прощевай, ругатель… учись…
Я чуть не всплакнул от ласки: стало тяжело, как будто Леня уезжает совсем.
Дядя Захар хотел, было, сам ехать в Питер и все там устроить, но Леня решительно заявил, что проводов и так довольно. Видно, и ему нелегко было впервые покидать родной дом: у него подрагивала верхняя губа, он суетился и все принимался увязывать чемоданы. Тетя и дядя поехали провожать на вокзал, и Александр Иванов старался вовсю, таскал чемоданы и наказывал кучеру «не зевать».
Я думаю, он был рад отъезду.
– Деньги-то не потеряй! – говорила плаксиво бабка Василиса. – В вагоне-то к себе привяжи… Леня, Леня!., хоть перекрестился бы… Деньги-то у тебя где?..
– Хорошо, хорошо… знаю.
Он мельком окинул двор, садик, колодец, старого Бушуя, уже не вылезавшего из конуры, скользнул по нашему крыльцу, где столпились все мы, и нахлобучил шляпу.
– Пошел! Держи ворота! – крикнул дядя Захар. Выехали.
Пусто стало кругом, пусто и скучно. Первый раз наш двор отправлял своего в далекую сторону. Мне было так не по себе, что я не вышел гулять, а сидел под окном и смотрел на гнилую конурку умиравшего от старости Бушуя. А через полчаса бабка Василиса, подоткнув грязную юбку, тощая и костлявая, с трясущейся головой, уже трусила с ведерком доить коров.
Вечером в том доме было темно. Тетя Лиза уехала ко всенощной в монастырь, а дядя Захар в темноте ходил по залу, и я через окно видел, как вспыхивала иногда за темным окном «крученка».
А потом… потом все вошло в колею, дядя по-прежнему разносил кучера и Гришку, ездил на завод, учитывал Александра Иванова и только изредка, в праздник, проезжал Жгута за заставой.
У нас сообщали, что дядя Захар очень скучает по Лене и всегда, как встречается со знакомыми, говорит:
– В те-хно-ло-ги-ческом инсти-туте он у меня!.. Вон куда двинул! Первый в нашем роду…
– Ученые-то эти… К делу бы вам его…
– Что поделаешь-то? Хочу и хочу!.. Весь в меня характером-то… кремень!
X
Прошло около года. Я перетащился в 3-й класс гимназии, но любимых занятий не оставил: играл в бабки, чикал и пускал змеи, хотя этот спорт уже падал: городовые строго преследовали нас, и мы отваживались пускать только простые змеи, без трещоток.
Степку Трифоныч окончательно закрепил за прилавком и научил всем правилам дела. С тоской заходил я проведать былого друга и любовался, как тот ловко показывал, как можно нагревать покупателей. Насыпая крупу и овес в мерку, он броском швырял зерно в бок и хвастал, что так можно «сберечь» осьмушку. Он знал тайну весов и так ловко раскачивал их и швырял на чашки пакеты, что даже Трифоныч хлопал себя по бедрам и удивлялся:
– Ну, прямо… волшебник!
Волшебник Степка до того увлекался новым спортом, что, заходя покупать орешки, я всегда просил вешать самого Трифоныча. Степка старался не порвать отношений и в часы досуга приносил от дедушки цареградские стрючки и палочки дивьего меда.
– Ах, Колька!.. – говорил он мне, – когда дедушка помрет, я за себя лавку возьму. Только он, черт, еще годов двадцать проживет… здоро-о-вый!
Мой папа-шинь-ка-а скончался…
При-и-казал мне до-о-олго жить!..
– А я, как кончу гимназию, студентом буду…
– Это нигилисты-то! Я тогда тебе в морду! Я за царя!..
– А я тебя бомбой… и всю лавку взорву!.. Ну, дай стрю-чочков-то…
К нам, в третий этаж, переехали новые жильцы, – большая семья, в которой было четыре барышни, ходившие летом в русских костюмах. Их отец где-то служил, мать с утра и до вечера строчила на машинке, а барышни ничего не делали и пели романсы. Да, это были очень веселые жильцы.
Каждый вечер к ним приходили гости, и здесь я впервые близко увидал студентов и, вообще, людей, которых Гришка, да, пожалуй, и многие на нашем дворе называли «нигилистами». Но это слово уже пропадало из обихода, и его заменили – подозрительный человек, «сацилист».
– Рвань все шляется, – ругался Гришка. – До утра глотку дерут, а никто и гривенника не даст.
В семье был и мой сверстник, тоже гимназист. Мы быстро сошлись и даже строили планы бегства в Америку или куда-то «на острова». Много особенного видел я в этой семье. Отцу и матери говорили «ты»; танцевали каждый вечер, между тем как у нас танцы разрешались только на святках. Молодые люди обходились с барышнями очень свободно, хватали за руки, дрались даже и получали шлепки, тогда как у нас никогда никаких посторонних молодых людей в доме не было.
Мир новых отношений открылся передо мной.
– Какие-то они оголтелые, – говорили у нас. – Уж не гнать ли?
Но и гнать не решались, так как квартира ходила выгодно.
Один из молодых людей, – его звали Курчик, должно быть, за его курчавую голову, – прекрасно играл на флейте. Высокий и тощий студент Дымоходов, или Труба, – больше молчал и ходил, говорили, – «для ужина». Кто-то с лицом старухи, скуластый, пел басом, готовился поступить в Большой театр, но всегда брал только две-три ноты, вынимал из засаленного сюртука платок, со вздохом качал головой и говорил глухо:
– Низко… не выйдет…
Ну, конечно, «не выйдет», так как он сам едва подходил под потолок. И хорошо, что не выходило: у него был такой страшный бас, что стекла могли разлететься и перегородки треснуть.